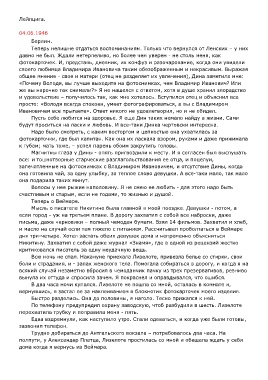Page 33 - Дневник - 1946 год...
P. 33
Лейпцига.
04.06.1946
Берлин.
Теперь нелишне отдаться воспоминаниям. Только что вернулся от Ленских – у них
давно не был. Ждали нетерпеливо, но более чем уверен - не столь меня, как
фотокарточек. И, представь, дневник, их конфуз и разочарование, когда они увидели
своего любимца Владимира Ивановича таким обезображенным и некрасивым. Выражая
общее мнение - свое и матери (отец не разделяет их увлечения), Дина заметила мне:
«Почему Володя, вы лучше выходите на фотоснимках, чем Владимир Иванович? Или
же вы нарочно так снимали?» Я не нашелся с ответом, хотя в душе хранил злорадство
и удовольствие – получилось так, как мне хотелось. Вступился отец и объяснил все
просто: «Володя всегда спокоен, умеет фотографироваться, а вы с Владимиром
Ивановичем все прыгаете». Ответ никого не удовлетворил, но и не обидел.
Пусть себе любится на здоровье. Я еще Дин таких немало найду в жизни. Сами
будут проситься на ласки и любовь. И все-таки Динка чертовски интересна.
Надо было смотреть, с каким восторгом и цепкостью она ухватилась за
фотокарточки, где был капитан. Как она их ласкала взором, руками и даже прижимала
к губам; мать тоже, – успел парень обоим закрутить головы.
Магнитны глаза у Дины - опять пригвоздили к месту. И я согласен был выслушать
все: и тошнотворные старческие разглагольствования ее отца, и поцелуи,
запечатленные на фотоснимках с Владимиром Ивановичем, и отсутствие Дины, когда
она готовила чай, за одну улыбку, за теплое слово девушки. А все-таки мало, так мало
она подарила таких минут.
Волосы у нее рыжие наполовину. Я не смею ее любить - для этого надо быть
счастливым и старым, если не годами, то жизнью и душой.
Теперь о Веймаре.
Мысль о писателе Никитине была главной в моей поездке. Девушки - потом, а
если город - уж на третьем плане. В дорогу захватил с собой все наброски, даже
письма, даже черновики – полный чемодан бумаги. Взял 14 фильмов. Захватил и хлеб,
и масло на случай если там тяжело с питанием. Рассчитывал проболтаться в Веймаре
дня три-четыре. Хотел застать обеих девушек дома и непременно объясниться
Никитину. Захватил с собой даже журнал «Знамя», где в одной из рецензий жестко
критиковался писатель за одну неудачную вещь.
Всю ночь не спал. Накануне приехала Лизелоте, привезла белье со стирки, свои
боли и страдания, и - запах женского тела. Помогала собираться в дорогу, и когда я на
всякий случай незаметно вбросил в чемоданчик пачку из трех презервативов, ревниво
вынула их оттуда и спросила зачем. Я покраснел и оправдывался, что ошибся.
В два часа ночи купался. Лизелоте не пошла со мной, осталась в комнате и,
вернувшись, я застал ее за наклеиванием в блокнотик фотокарточек моего изделия.
Быстро разделись. Она до половины, я наголо. Тесно прижался к ней.
По телефону предупредил охрану заводскую, чтоб разбудили в шесть. Лизелоте
перехватила трубку и поправила меня - пять.
Едва вздремнули, как наступило утро. Стали одеваться, и когда уже были готовы,
зазвонил телефон.
Трудно добираться до Антгальского вокзала – потребовалось два часа. На
полпути, у Александер Платца, Лизелоте простилась со мной и обещала ждать у себя
дома когда я вернусь из Веймара.