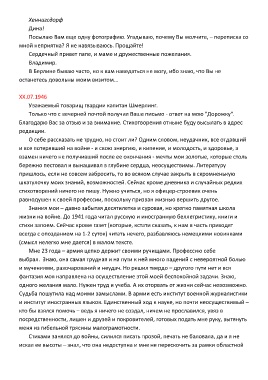Page 322 - Владимир Гельфанд, письма. 1941-1946
P. 322
Хеннигсдорф
Дина!
Посылаю Вам еще одну фотографию. Угадываю, почему Вы молчите, – переписка со
мной неприятна? Я не навязываюсь. Прощайте!
Сердечный привет папе, и маме и дружественные пожелания.
Владимир.
В Берлине бываю часто, но к вам наведаться не могу, ибо знаю, что Вы не
останетесь довольны моим визитом...
ХХ.07.1946
Уважаемый товарищ гвардии капитан Шмерлинг.
Только что с вечерней почтой получил Ваше письмо - ответ на мою "Дорожку".
Благодарю Вас за отзыв и за внимание. Стихотворения отныне буду высылать в адрес
редакции.
О себе рассказать не трудно, но стоит ли? Одним словом, неудачник, все отдавший
и все потерявший на войне - и свою энергию, и кипение, и молодость, и здоровье, а
взамен ничего не получивший после ее окончания - мечты мои золотые, которые столь
бережно пестовал и вынашивал в глубине сердца, неосуществимы. Литературу
пришлось, если не совсем забросить, то во всяком случае закрыть в скромненькую
шкатулочку моих знаний, возможностей. Сейчас кроме дневника и случайных редких
стихотворений ничего не пишу. Нужно учиться, но я офицер-строевик очень
равнодушен к своей профессии, поскольку призван жизнью вершить другое.
Знания мои – давно забытая десятилетка и суровая, но крепко памятная школа
жизни на войне. До 1941 года читал русскую и иностранную беллетристику, книги и
стихи запоем. Сейчас кроме газет (которые, кстати сказать, к нам в часть приходят
всегда с опозданием на 1-2 суток) читать нечего, разбавляюсь немецкими новинками
(смысл нелегко мне дается) в малом тексте.
Мне 23 года – армия цепко держит своими ручищами. Профессию себе
выбрал. Знаю, она самая трудная и на пути к ней много падений с невероятной болью
и мучениями, разочарований и неудач. Но решил твердо – другого пути нет и вся
фантазия моя направлена на осуществление этой моей беспокойной задачи. Знаю,
одного желания мало. Нужен труд и учеба. А их оторвать от жизни сейчас невозможно.
Судьба пошутила над моими замыслами. В армии есть институт военной журналистики
и институт иностранных языков. Единственный ход к науке, но почти неосуществимый –
кто бы взялся помочь – ведь я ничего не создал, ничем не прославился, увяз в
посредственности, лишен и друзей и покровителей, готовых подать мне руку, вытянуть
меня из гибельной трясины малограмотности.
Стихами занялся до войны, силился писать прозой, печать не баловала, да и я не
искал ее высоты – знал, что она недоступна и мне не перескочить за рамки областной