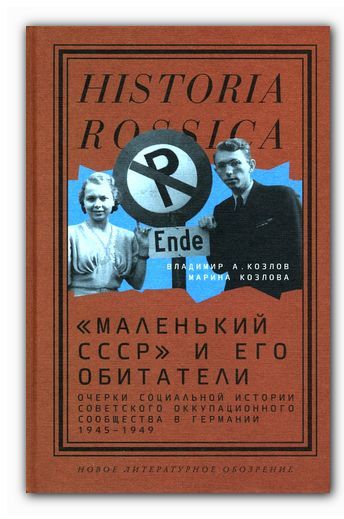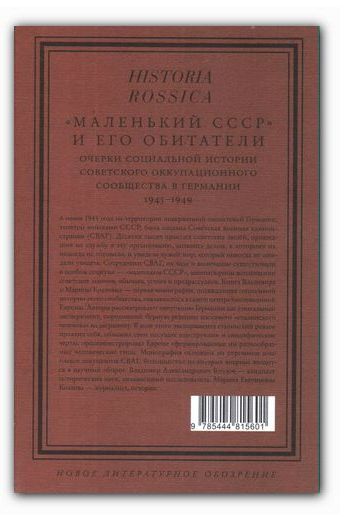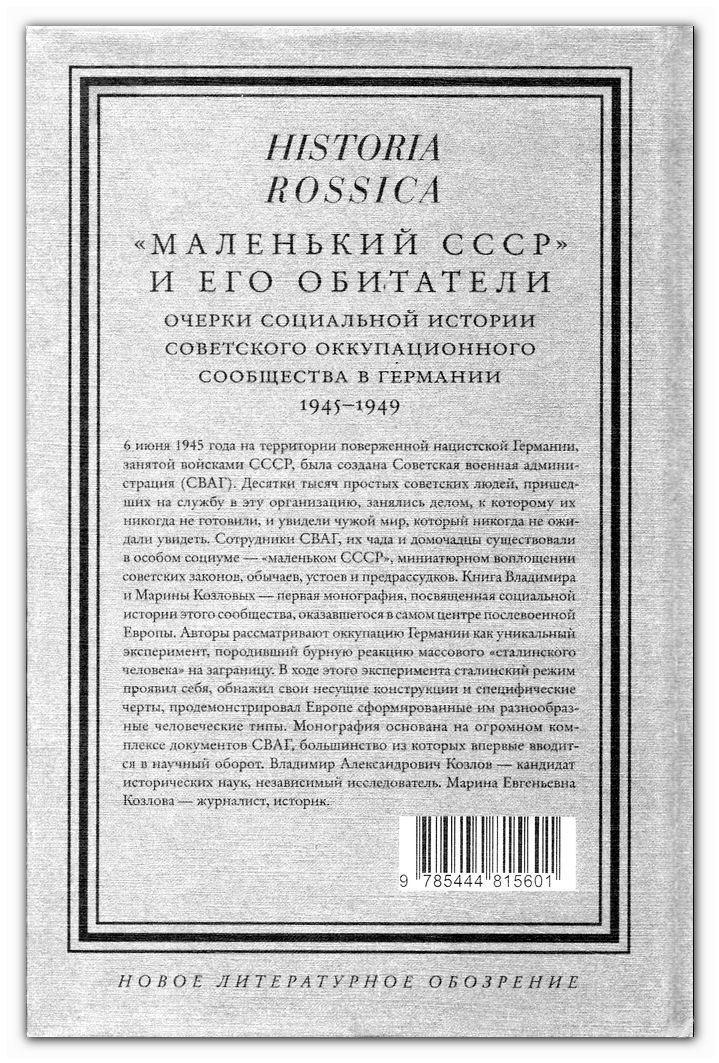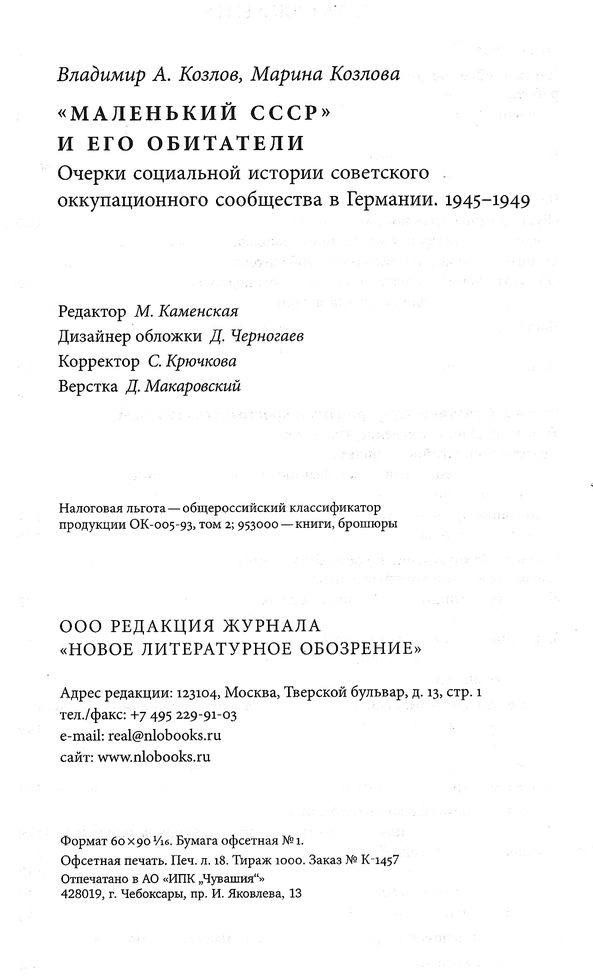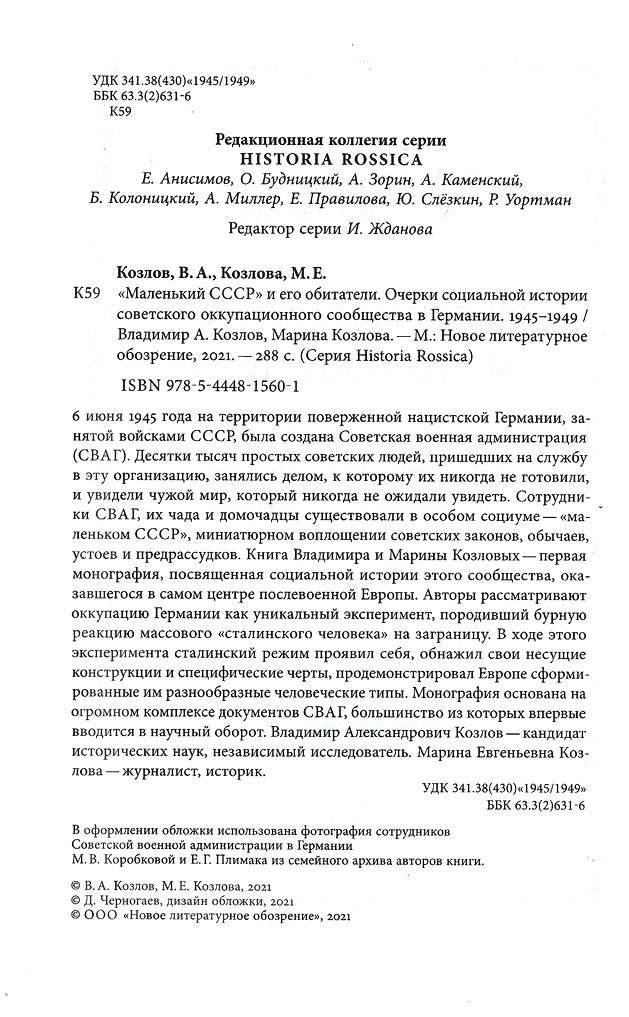Нашим родителям – участникам и очевидцам
Великой Войны
ОТ
АВТОРОВ
Советское
оккупационное сообщество, возникшее волею судеб и по приказу начальства
в самом центре разрушенной послевоенной Европы, –
явление
уникальное и невероятно интересное. Десятки тысяч простых советских
людей вместе с чадами и домочадцами попали после войны на службу в
Советскую военную администрацию в Германии (СВАГ), занялись делом, к
которому их никогда не готовили, и увидели чужой мир, который никогда
не ожидали увидеть. Возникший на оккупированной территории
«маленький СССР» стал своеобразным социокультурным
экспериментом, в ходе которого советский режим проявил себя, обнаружил
свои ключевые черты и специфические особенности, продемонстрировал миру
сформированные им разнообразные человеческие типы, способы действия и
алгоритмы поведения. Сваговцы (читателю еще предстоит привыкнуть к
этому неологизму), вернувшись на родину, многие десятилетия хранили в
памяти историю своей немецкой жизни. Кое-кто из бывших руководителей
СВАГ даже сумел поделиться своими воспоминаниями, пусть и написанными в
духе мемуарного социалистического реализма. Но сама история Советской
военной администрации на долгие десятилетия погрузилась в сумрак
секретных архивохранилищ, куда без специального допуска было не попасть.
Теперь
архивы в основном открыты. Историей Советской зоны оккупации и СВАГ
занимались и занимаются десятки историков1.
Однако ни одной книги об уникальном социальном явлении –
советском оккупационном сообществе – до сих пор не написано.
Мало
кто из авторов авторитетного «собрания сочинений»
по
истории советской оккупации проявил интерес к личности обычного
сваговского чиновника, попытался набросать его коллективный портрет. Не
занимая высоких постов, именно он (этот чиновник) в силу своего
разумения (или неразумия) исполнял (или не исполнял) приказы
руководства – управлял, как мог, оккупированной Германией. И
нужно быть очень наивным, чтобы полагать: там, где в дело вступала
большая политика, от личных и профессиональных качеств советского
бюрократа, и не только его, но даже сержантов и солдат, служивших в
военных комендатурах, мало что зависело. Лишь изучая влияние личности
исполнителей, их modus operandi и modus vivendi на работу оккупационной
власти, а в конечном счете на результаты большой политики Сталина в
германском вопросе, можно объяснить ход и исход советизации, и в
отдаленной перспективе – конечное фиаско советской политики в
Восточной Германии.
Примем
за
очевидность суждение немецкого историка Э. Шерстяной о том, что
документы из фондов СВАГ, как и другие архивные материалы советского
происхождения, ни концептуально, ни эмпирически2,
а попросту говоря, никак не отразились в социальной и культурной
истории советской зоны оккупации. Что же касается социальной истории
СВАГ, то такой истории пока нет. Десятистраничная статья Эльке
Шерстяной, содержащая, как она сама говорит, «некоторые
мысли», которые в будущем могут пригодиться исследователям
советского оккупационного сообщества, конечно, не заполняет пробела.
Когда
десять лет
назад мы только приступали к архивным изысканиями по истории
«маленького СССР», нам и в голову не могло прийти,
что
кто-то из историков может в пылу полемики превратить
«длительную
и кропотливую работу в архивах» в некий
опровергающий
аргумент, поскольку, де, «в архивных документах часто
отражается
не норма повседневности, а отклонение от нее»3.
Усомнившись в точности утверждений Шейлы Фитцпатрик о советском
человеке 1930-х годов4 (а
это именно ей попало за «кропотливую работу в
архивах»), ее
оппонент решил не утруждать себя подробностями и доказательствами, а
ограничился лишь иронической репликой. Нас, в общем-то, не смутил бы
подобный полемический прием, если бы уважаемый автор не озадачил
читателей заявлением о «норме повседневности»,
которую, как
кажется, он не очень склонен искать в архивах. И где же тогда ее
искать? Может быть, в «прецедентных текстах» эпохи
сталинизма? К таким текстам философ и социолог Н. Козлова относила и
малохудожественный соцреализм, и «Краткий курс истории
ВКП(б)», и «Книгу о вкусной и здоровой
пище»5.
Они (эти тексты) показывают некие образцовые практики, другие берега
советской жизни – совершенно чуждые повседневности, манящие
обещанием грядущего счастья. А пока демонстрирующие нелепый шаблон
правильной книжной жизни. И что же тогда остается делать историку?
Отвлечься от живой реальности, в которой слишком много
«отклонений», и, может быть, постараться их даже не
замечать? Вернуться в парадный мир сталинской идеологии, ведь она тоже
была частью повседневности? И с опаской приближаться к рассекреченным
архивным документам, остерегаясь не тех открытий?
Мы,
разумеется,
не страдаем архивным фетишизмом и тем более не верим в
«правду из
сейфа», хотя наши основные источники более пятидесяти лет
были
скрыты в отделе специальных фондов Государственного архива Российской
Федерации (ГА РФ). В этой книге читатель встретится и с опубликованными
мемуарами, и с дневниками участников и очевидцев событий, с нашими
собственными семейными преданиями о жизни и работе родителей одного из
авторов в аппарате Политсоветника СВАГ, с художественной литературой из
разряда честного социалистического реализма, с пропагандистскими
текстами сталинских времен и даже с некоторыми важными для понимания
темы кинофильмами давно ушедшей эпохи. Но все самое важное, новое и
интересное мы все-таки почерпнули в фондах Советской военной
администрации, хранящихся в ГА РФ.
Документы
СВАГ
содержат в себе достаточно материала для изучения обыденных норм жизни
советского оккупационного сообщества. Именно норм, а не отклонений. Ибо
то, что мы считаем нормой, кардинально отличается от того, что считают
нормой недовольные «отклонениями» авторы. Для нас
норма
– это не идеологически возвышенная картина действительности,
а
устоявшиеся тренды повседневности. Даже если властители СССР считали
подобные тренды аномалиями, умели красиво писать о своих нормах
в газетах и использовали власть для подкрепления своих пропагандистских
мифов. Нормативные хотения власти тоже будут предметом нашей работы. Но
в первую очередь мы попытаемся войти со всем «пестрым
сором» оккупационной жизни в актуальную ныне дискуссию о
«пропитанности» сталинского человека официальной
идеологией
и его дискурсивной несвободе6.
Работая
с
архивными документами, мы познакомились со множеством интересных, ярких
и своеобразных людей. Это и радеющий о пользе дела военный комендант
района Пренцлау Н. И. Старосельский, чувствующий ответственность
«перед историей за все дела, которые мы здесь
делаем»7.
И энтузиасты, подобные Н. Ф. Пасхину, начальнику сельхозотдела
Управления СВА земли Саксония-Ангальт, владевшему несколькими языками и
издавшему для пользы дела на свой страх и риск немецко-русский словарь
«Сельское хозяйство и лесоводство»8.
Среди сваговцев были те, кто легко адаптировался к иноземной
цивилизации, превращая погоню «за личной наживой в
своеобразный
фетиш»9,
и другие – как офицер Гнатюк, томившийся в Германии и
настойчиво рвавшийся домой10.
Мы сочувствовали не желавшему прощаться с армейской жизнью капитану
Косыреву, которому, как он сам считал, вместо того чтобы командовать
батальоном или даже полком, приходилось сидеть в дежурке и решать
«разные вопросы». «Все требуют, кому не
лень, – жаловался капитан, – а
мне вся эта
политика просто не лезет в голову»11.
О нескольких годах жизни и работы этих и многих других сваговцев,
откуда они суть пошли, как попали в военную администрацию, что думали о
начальстве и немцах, как этими немцами управляли, какого образа
действий предпочитали придерживаться, во что верили и в чем
сомневались, мы попытаемся рассказать в этой книге.
В
своей работе мы
стремились к своего рода концептуальной и фактографической детализации
позднего сталинизма. Прежде всего, речь идет о самой сущности этого
явления. Считать ли подобное историческое «событие»
продолжением некой протяженной эпохи, прерванной войной, а после нее
достигшей своей высшей, зрелой формы, или вслед за Джулианой Фюрст и ее
соавторами отнестись к нему как самодостаточному историческому феномену?12 Послевоенный
период в СССР, как и в истории любой другой страны, выбирающейся из
пепла и руин, закономерно ассоциируется с «возвращением к
нормальности»13.
Но в какой мере это «состоявшееся» после войны
культурно-историческое событие было «простой»
реставрацией
довоенной сталинской системы, расшатанной, трансформированной и
разбалансированной войной?14 Ведь
в Советском Союзе, как справедливо считает Роберт Дейл, окончание войны
не столько принесло освобождение от обязательств и ограничений военного
времени, сколько выдвинуло новые требования и цели – не
демобилизация социальной жизни, а скорее ее ремобилизация. Война и миф,
ею созданный, считает Дейл, позволили перезапустить советский проект,
вдохнуть жизнь в официальную идеологию, предлагая новые возможности
изменения общества15.
Важно
понять, в
какой мере сваговский социум как слепок и модель большого СССР,
переделанного сначала репрессиями, а потом войной, был (на низовом
уровне) восприимчив к реставрационным усилиям власти и способен к
перезапуску в инородной и чуждой для советского человека немецкой
среде. «Маленький СССР», возникший на немецкой
территории,
продуцировал такие формы нормальности, в рамках которых незаметно
вызревали культурные предпосылки оттепельного конфликта между будущими
сталинистами и будущими шестидесятниками. Ведь протагонисты оттепели и
ее будущие антагонисты вышли «из одной
шинели» –
эпохи позднего сталинизма. Историки давно заметили возникшее во время
войны и сохранявшееся какое-то время после ее окончания чувство
раскрепощения у поколения победителей. Но они до сих пор в поиске
определений этого феномена. Говорят о деидеологизации, стихийной
десталинизации, даже о «неодекабризме».
Мы
не склонны
втягиваться в этот спор определений. Но считаем возможным провести
«полевое» исследование послевоенных культурных
трансформаций советского оккупационного сообщества в Германии. Для
этого, как нам кажется, уместно опираться на определения, которые
придумала сама власть, а она назвала (обозвала) новые явления, обратив
на них острие критики и репрессий, «преклонением перед
заграницей» и «космополитизмом».
Историкам остается «только» увидеть
ту непридуманную реальность, которая скрывалась за злобными инвективами
партийной пропаганды. Наш главный вопрос: в какой мере
сотрудники
СВАГ чувствовали личную несвободу, существуя в репрессивном
идеологическом поле, насколько они были скованы или раскованы, когда им
приходилось думать «не вслух» или высказываться в
формальной и неформальной обстановке? Поместив сталинского человека в
необычные для него условия, история не только раскрыла новые грани
советской повседневности, но в известном смысле создала своеобразную
оккупационную субкультуру, которую бывшие сваговцы по частям вывозили в
СССР вместе с немецкими трофеями.