Subject Headings:


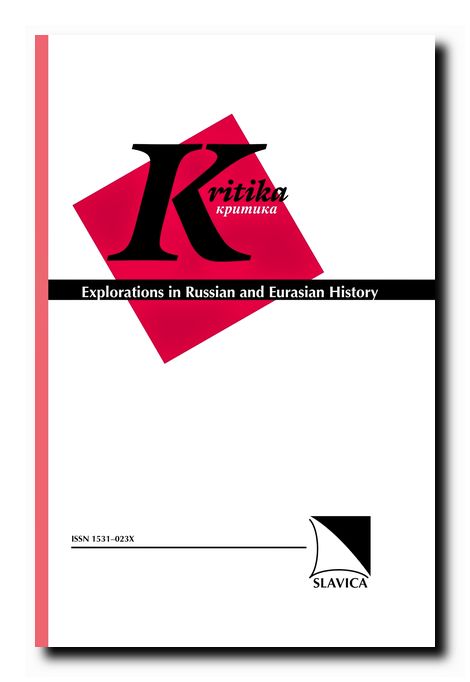
E-ISSN: 1538-5000 Print ISSN: 1531-023x
DOI: 10.1353/kri.0.0105
Subject Headings:
Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945
|
||
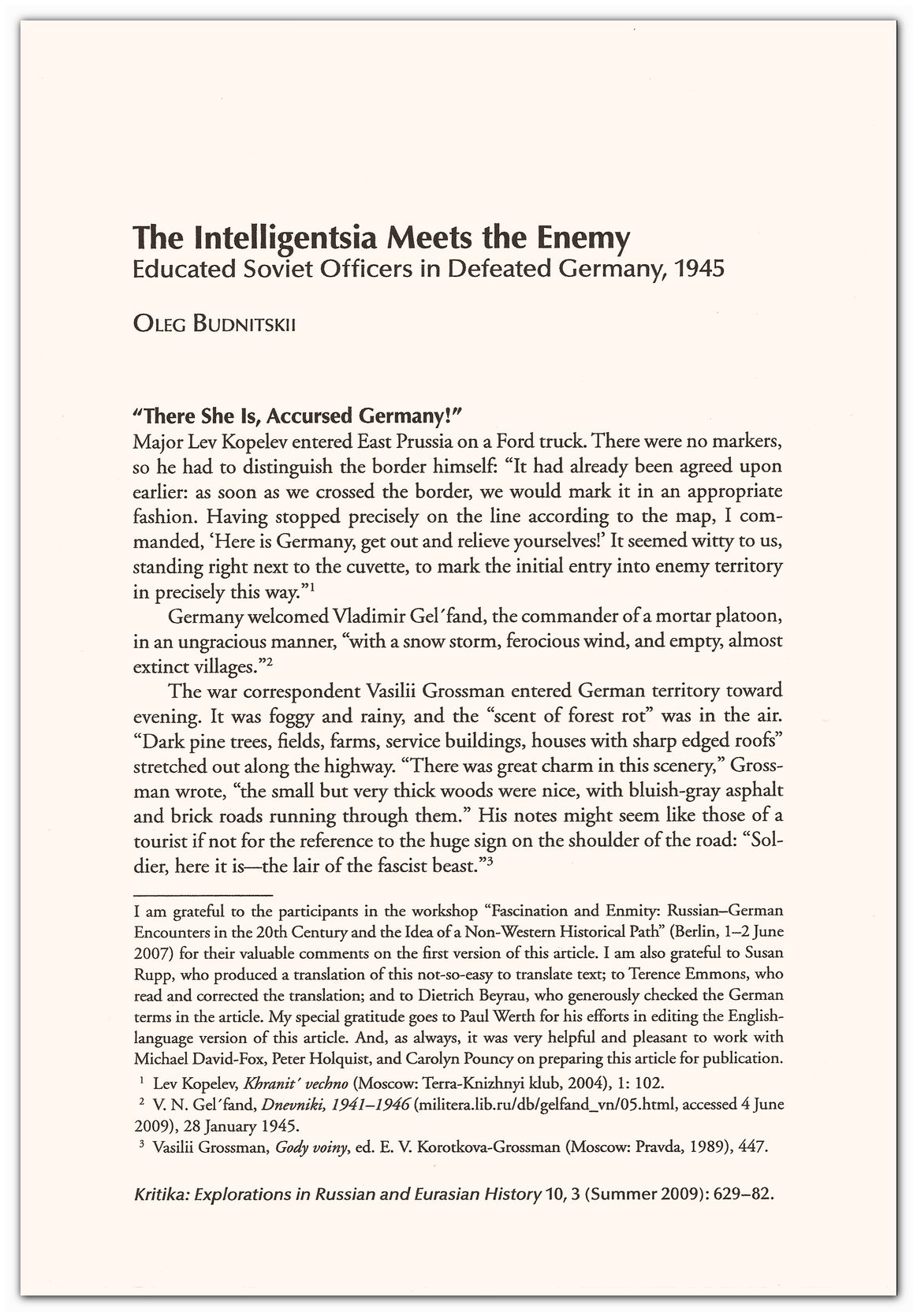 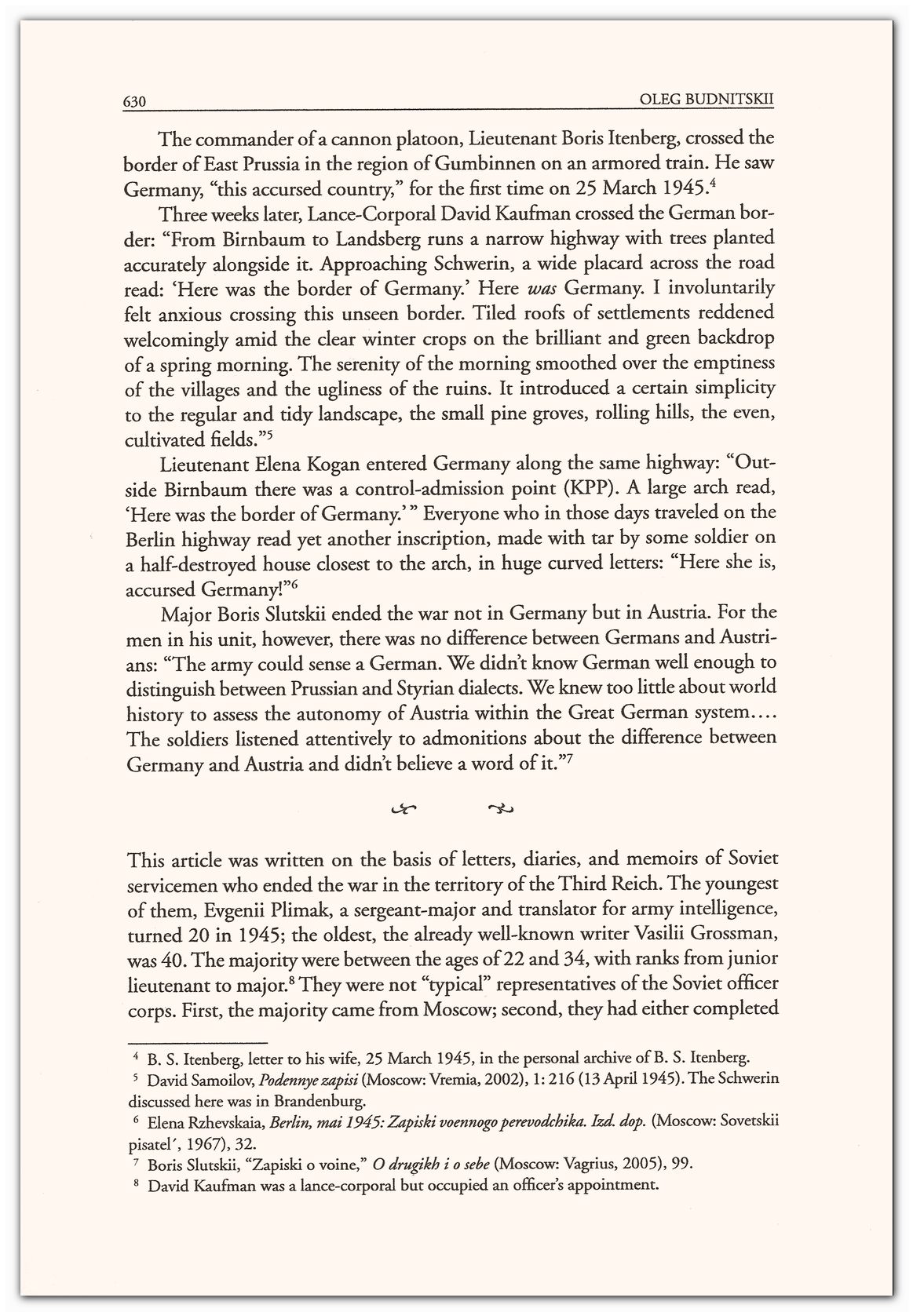 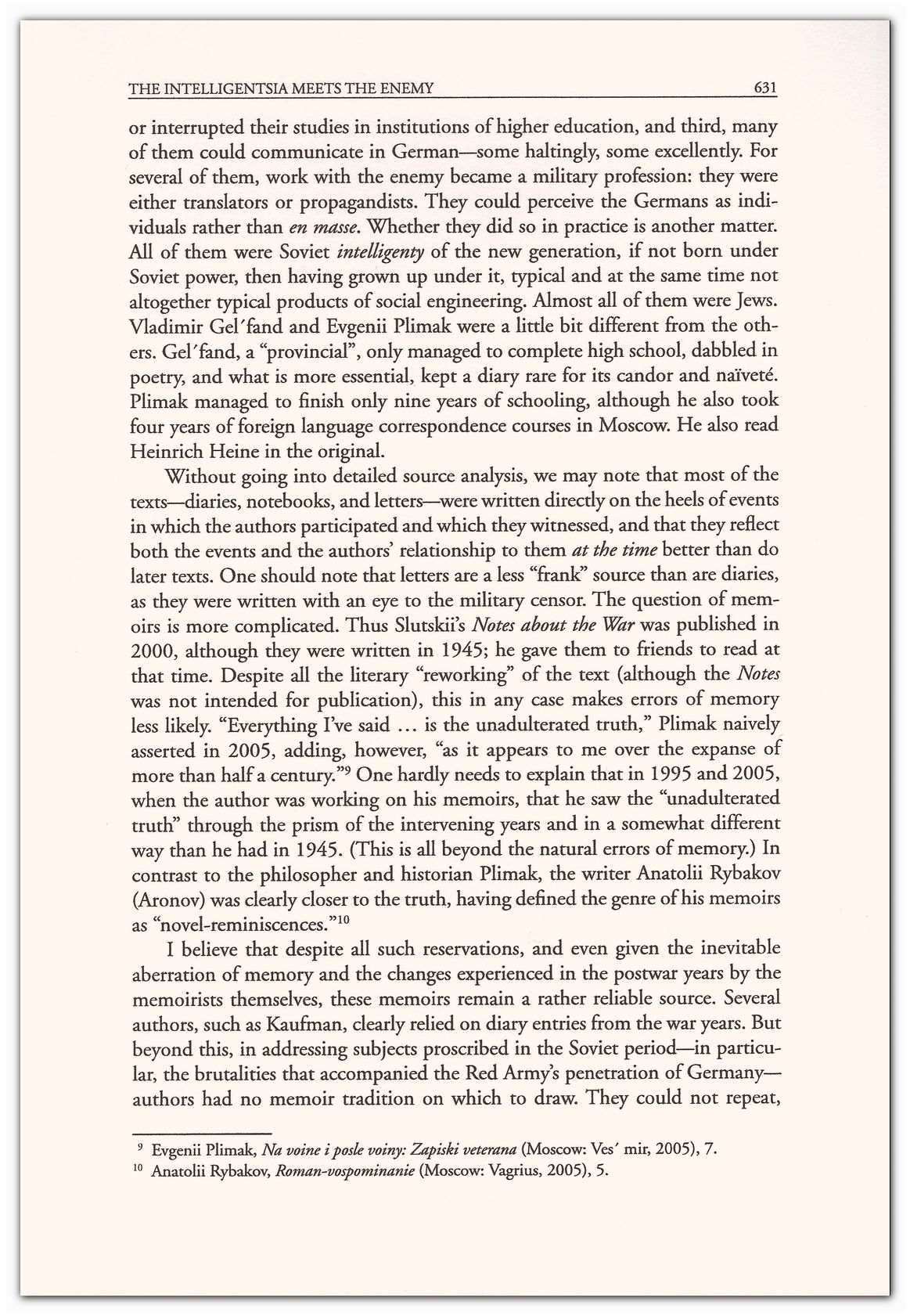 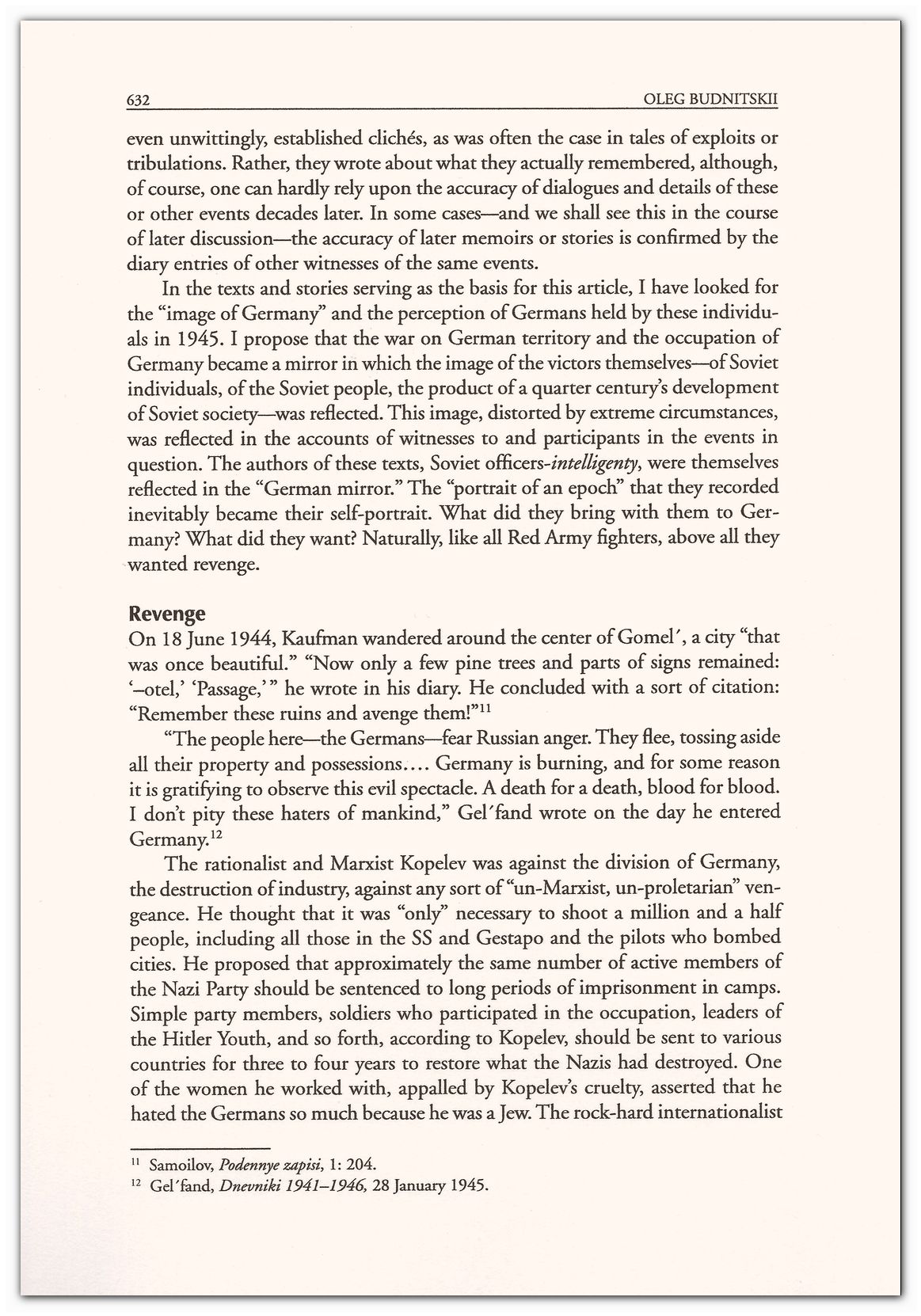 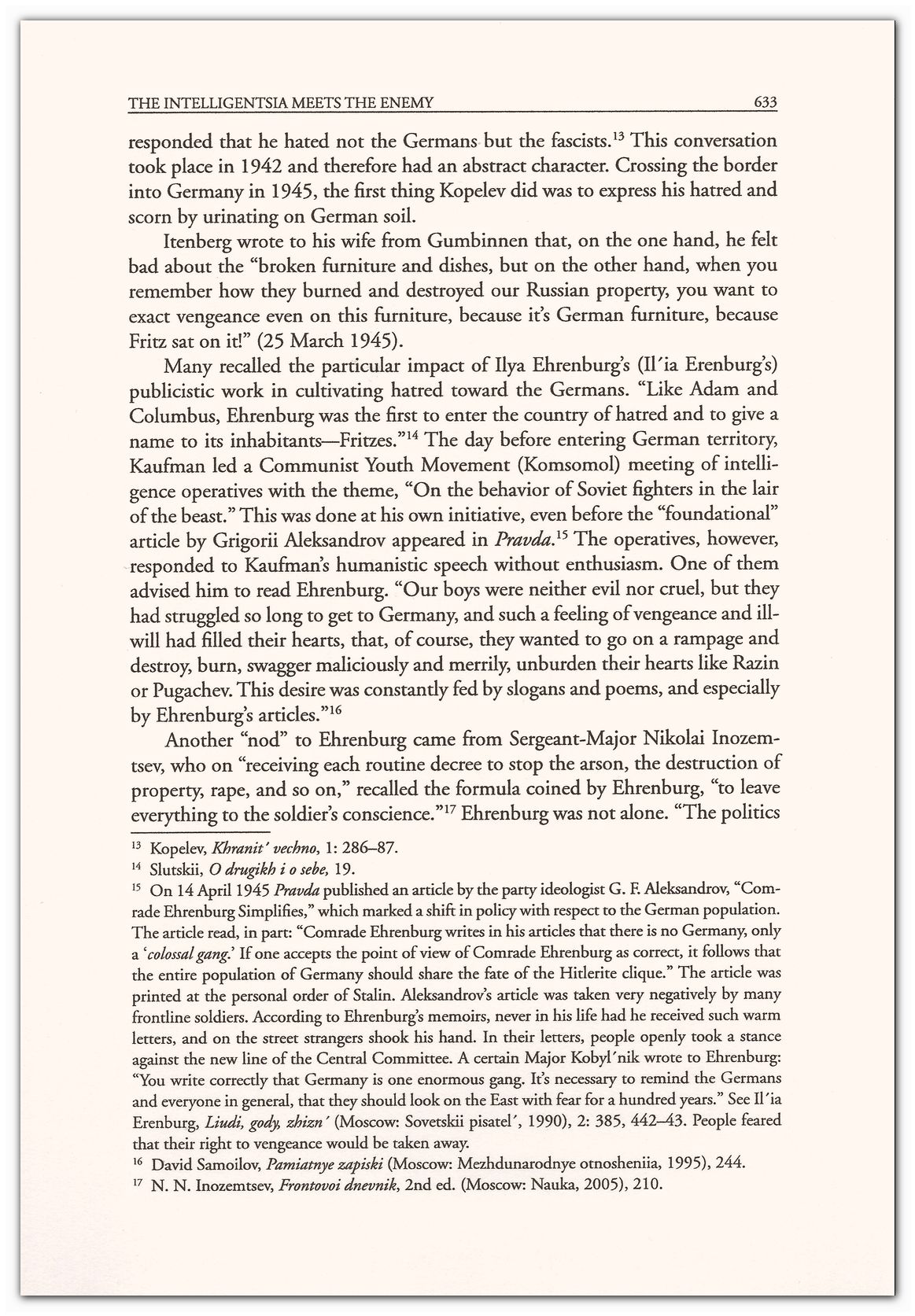 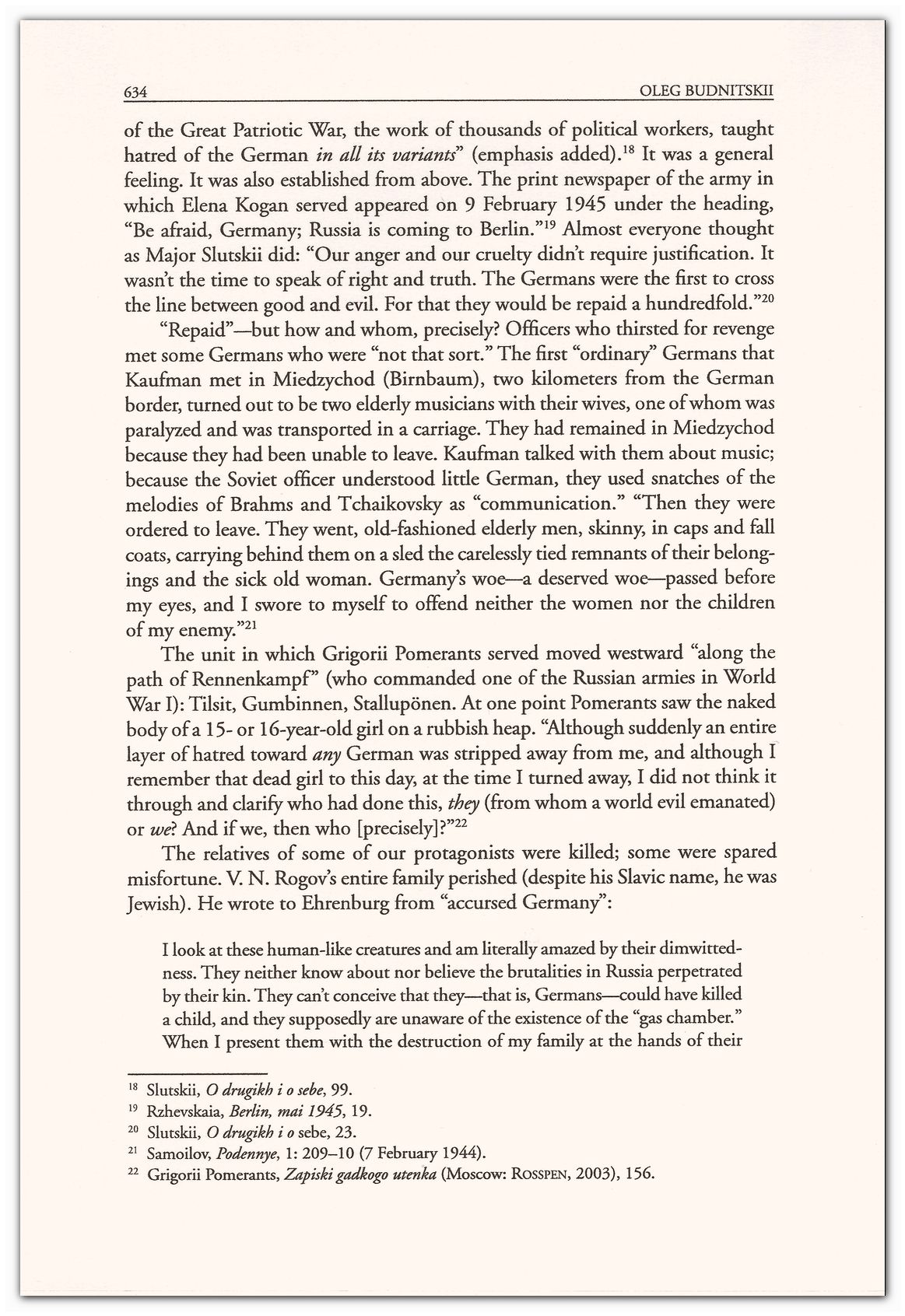 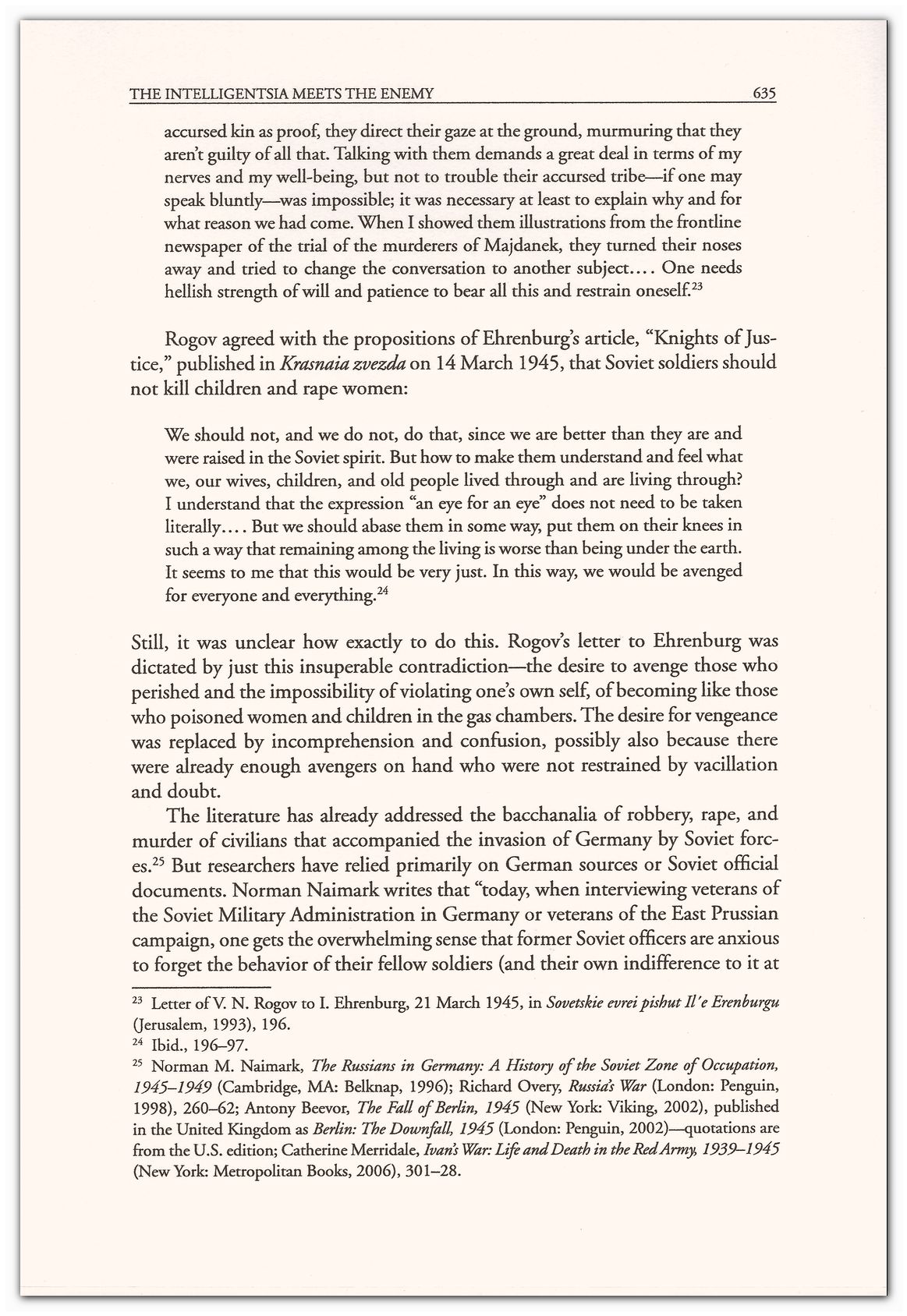 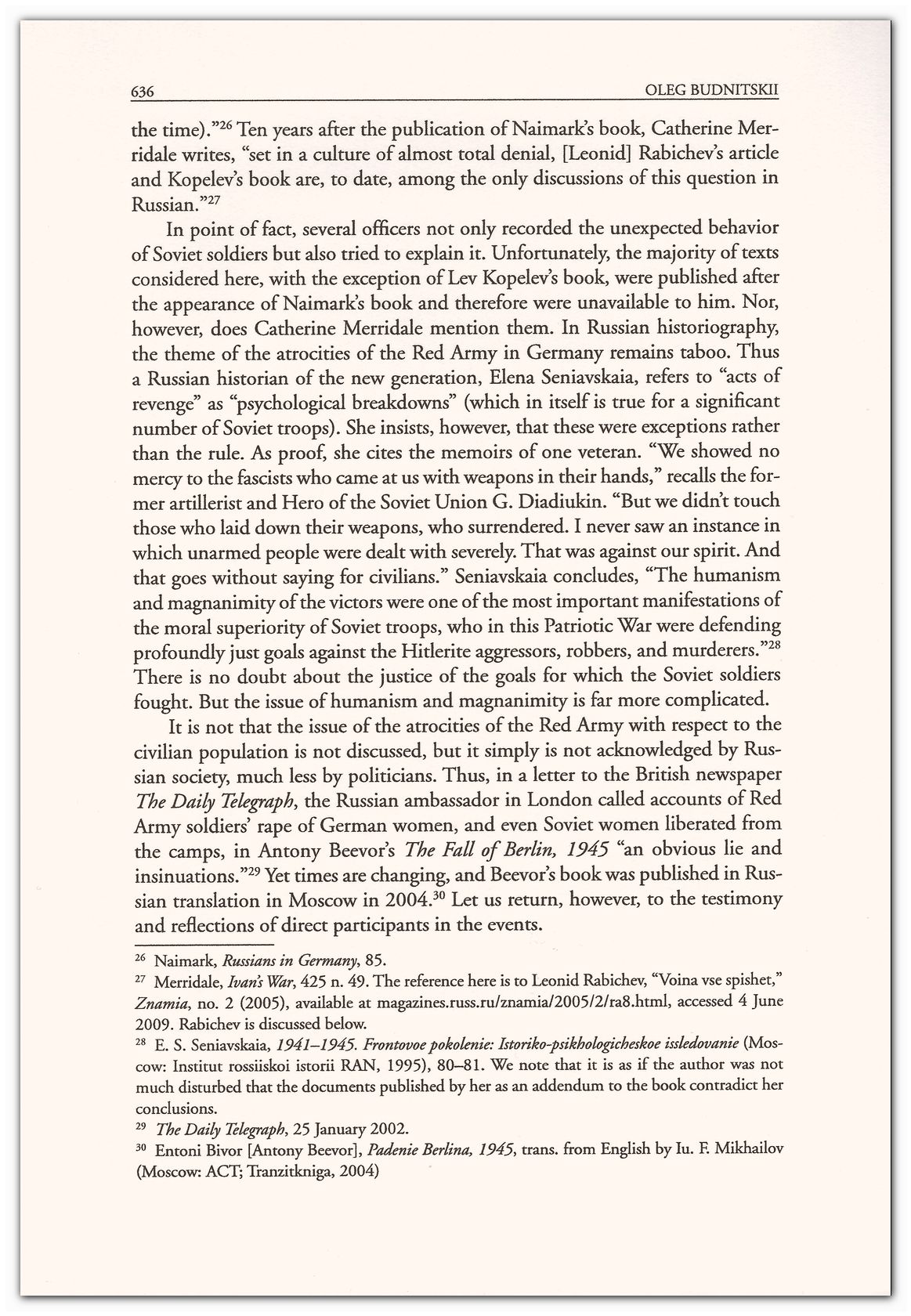 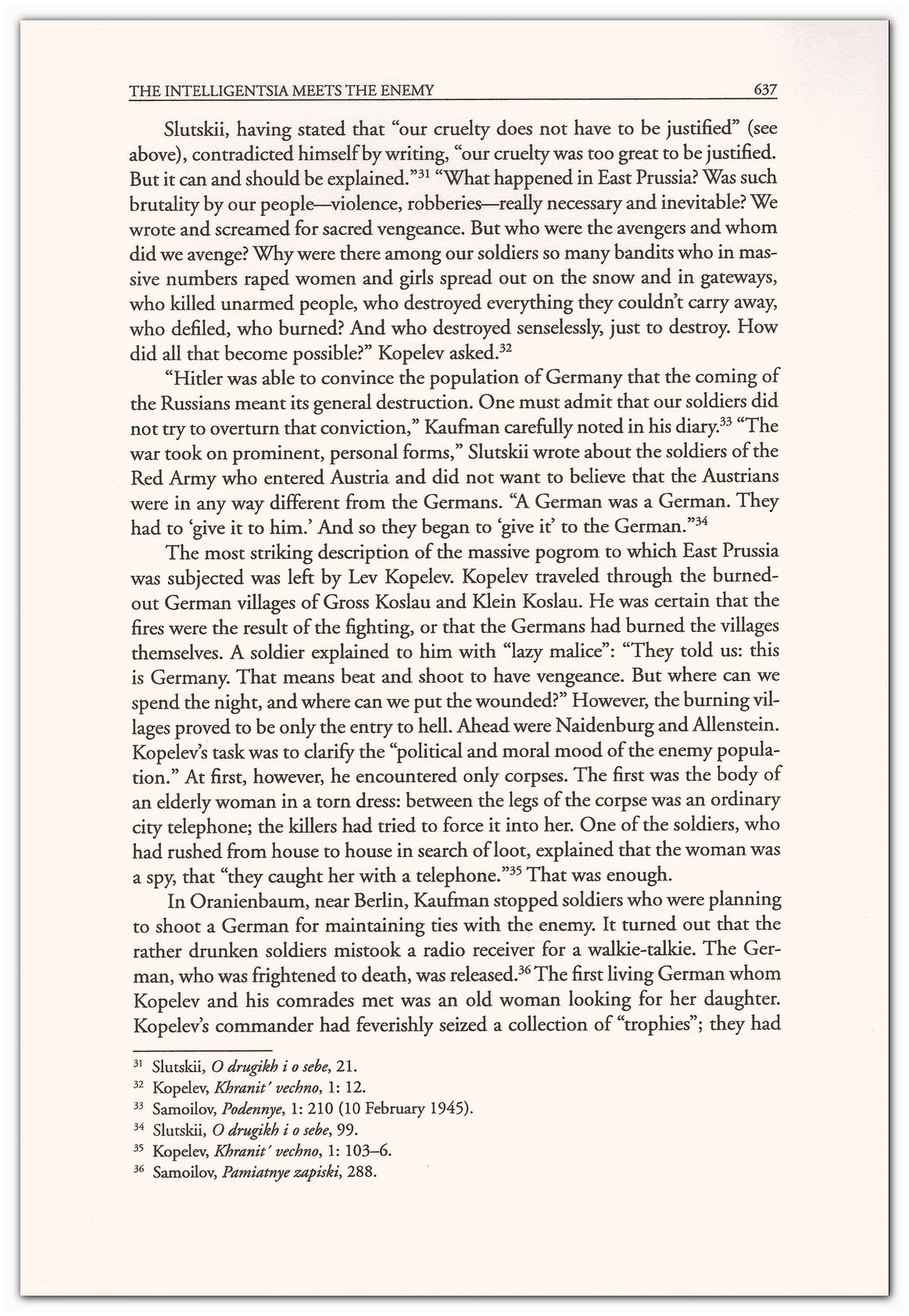 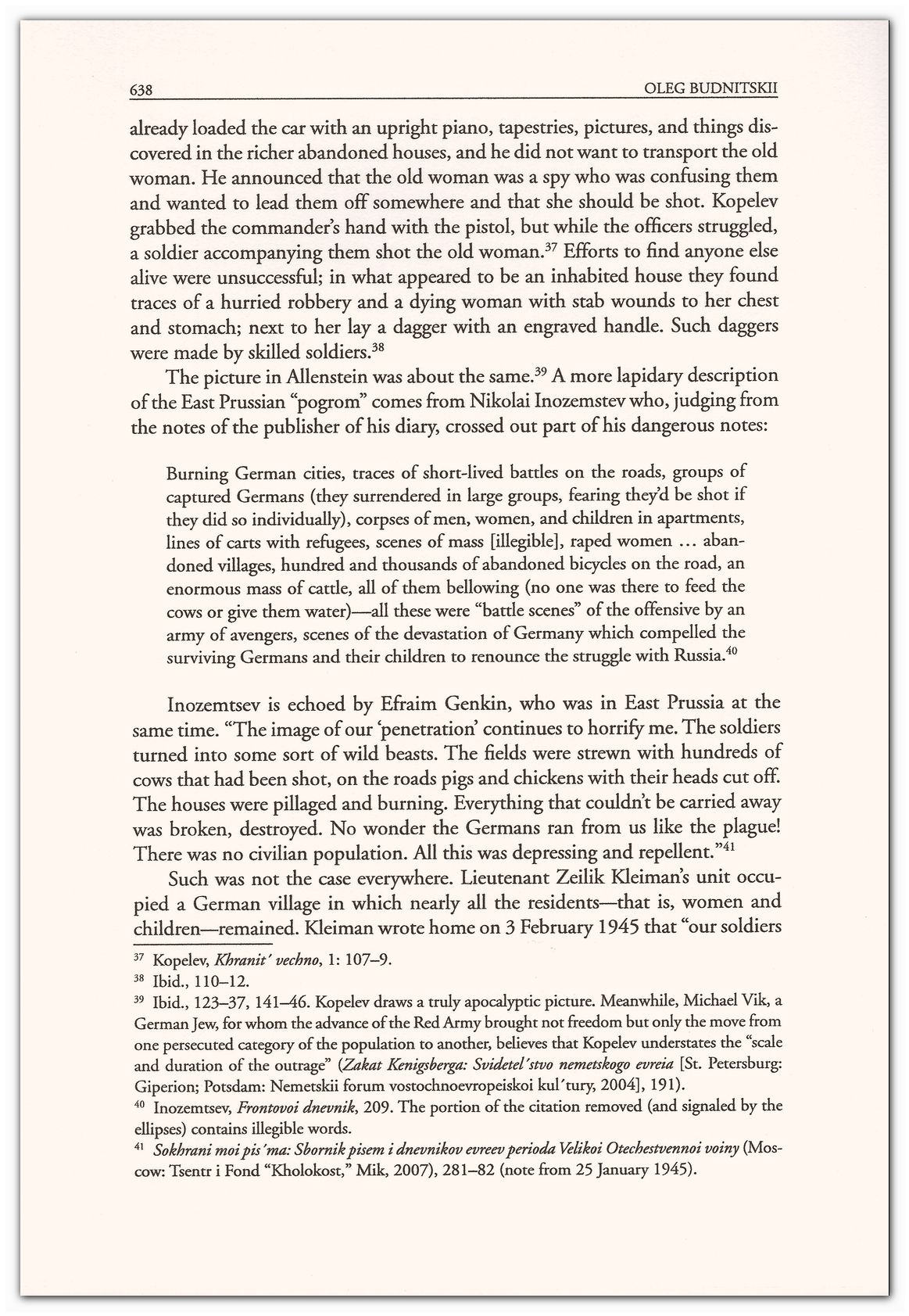 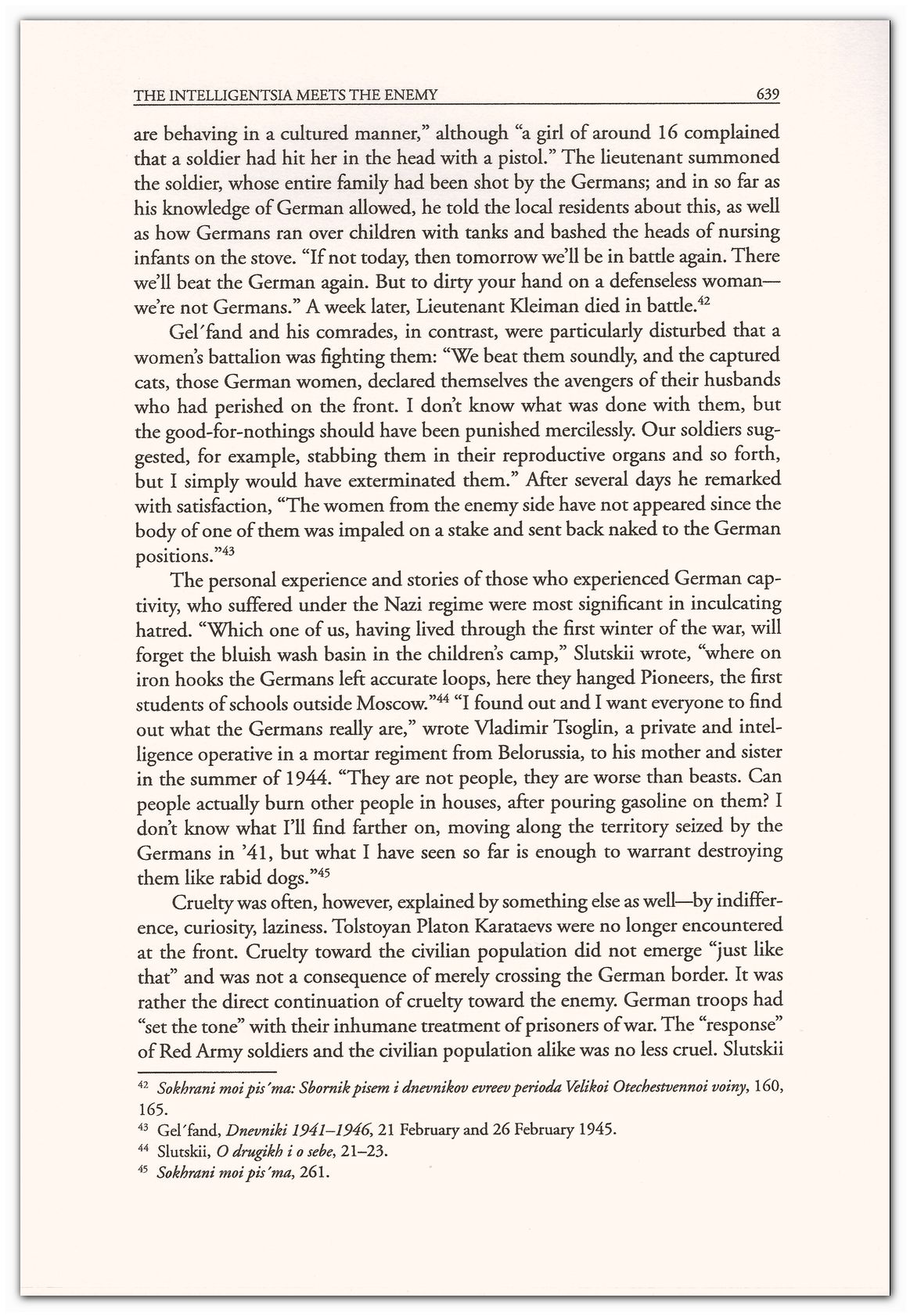 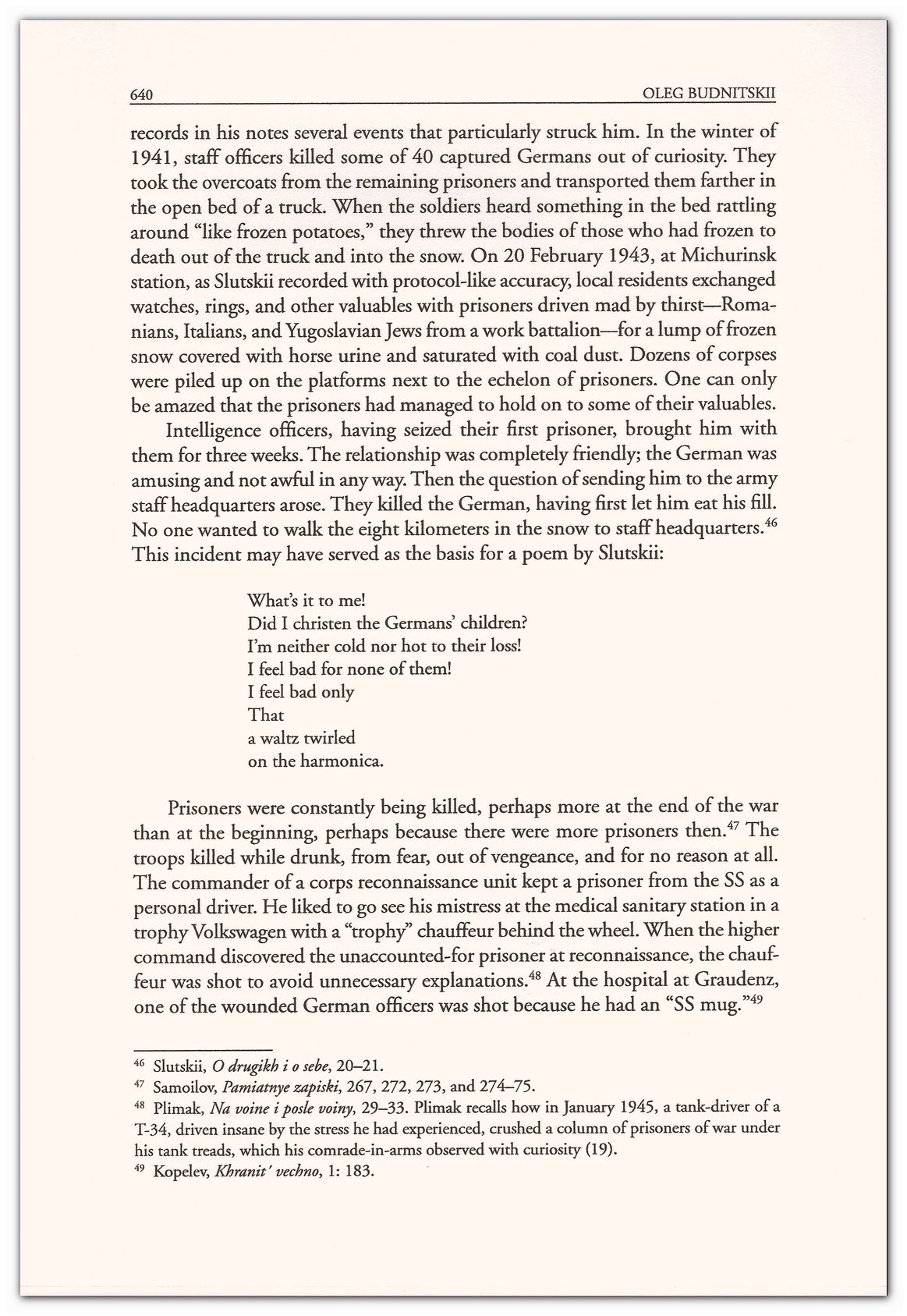 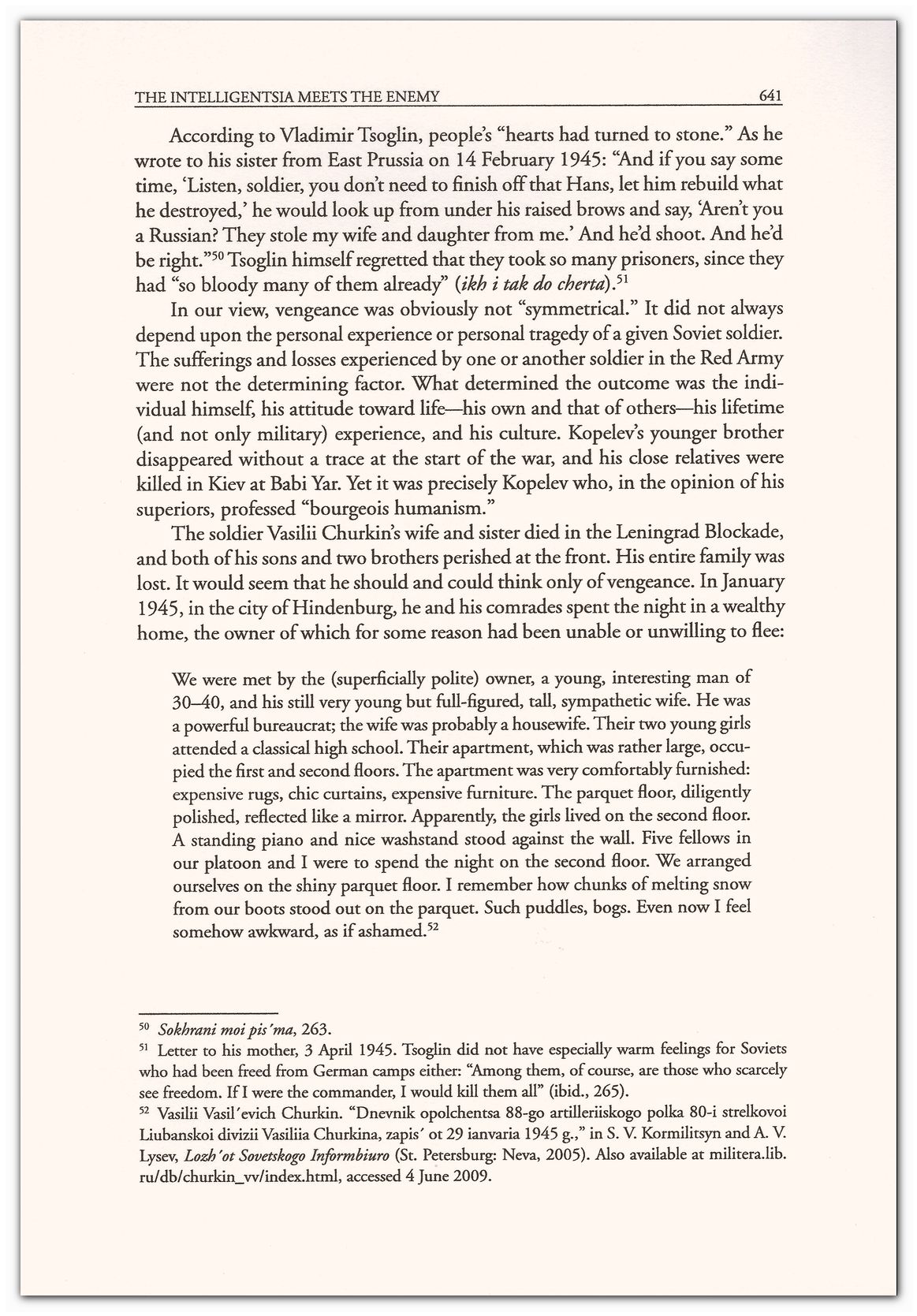 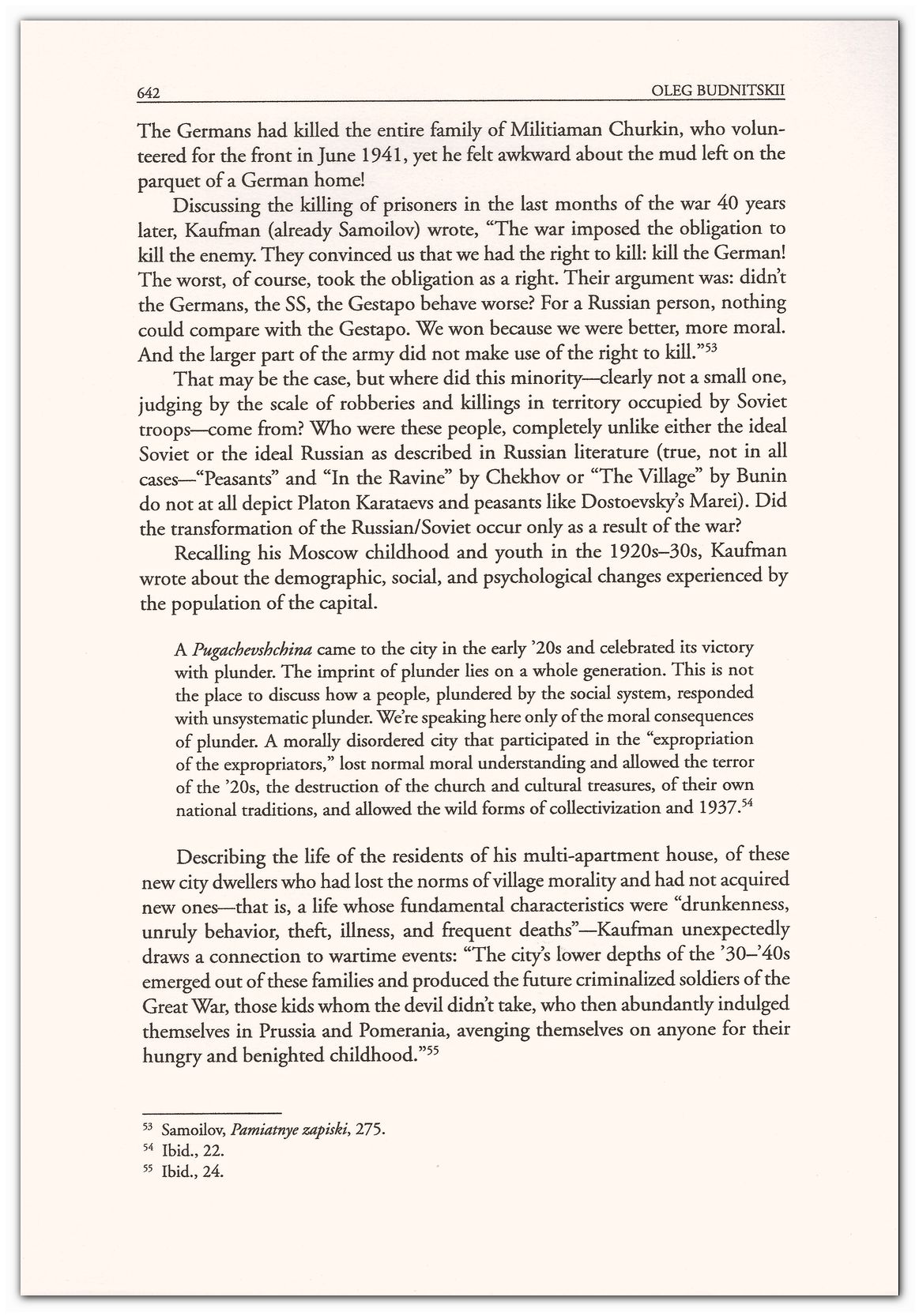 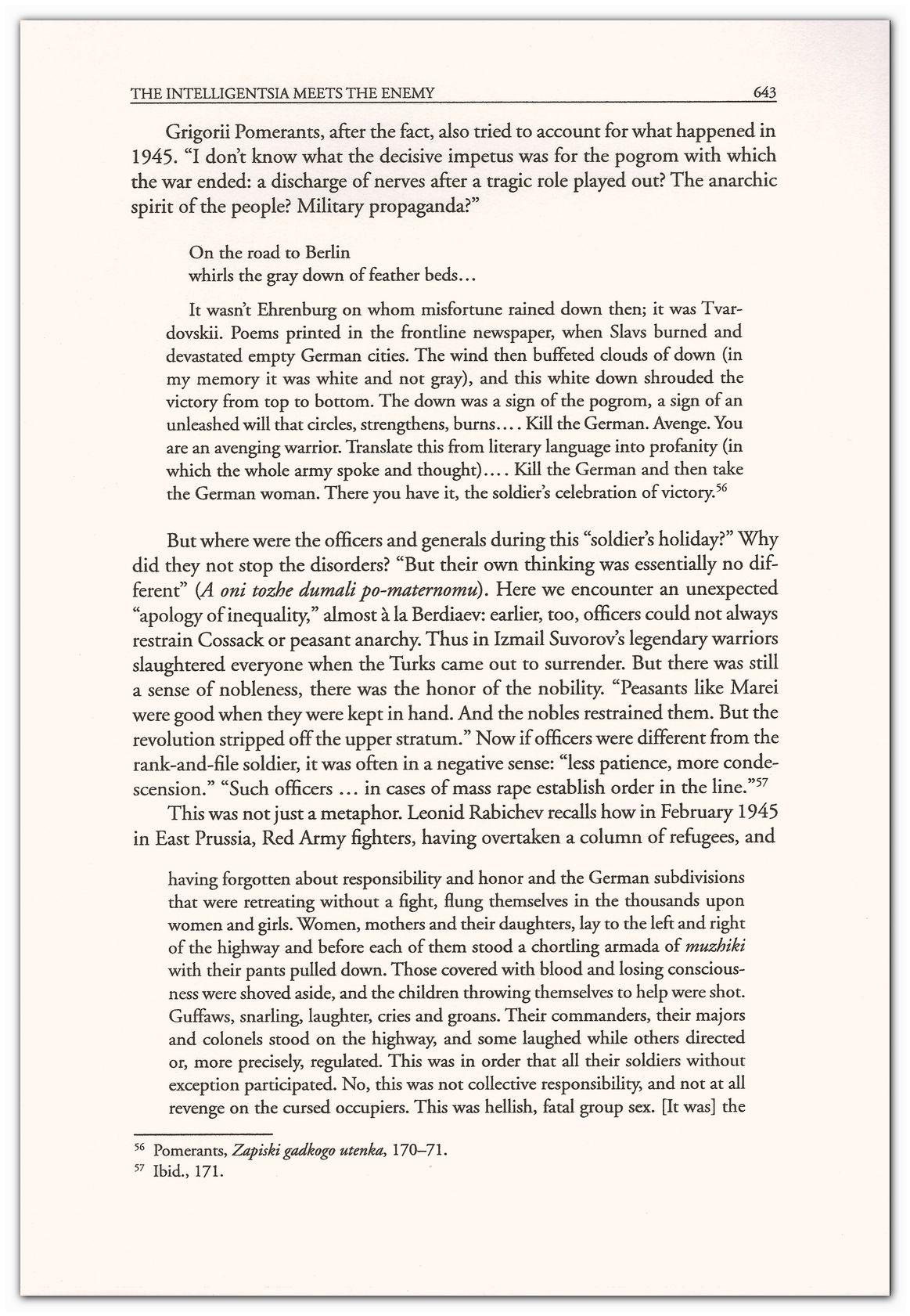 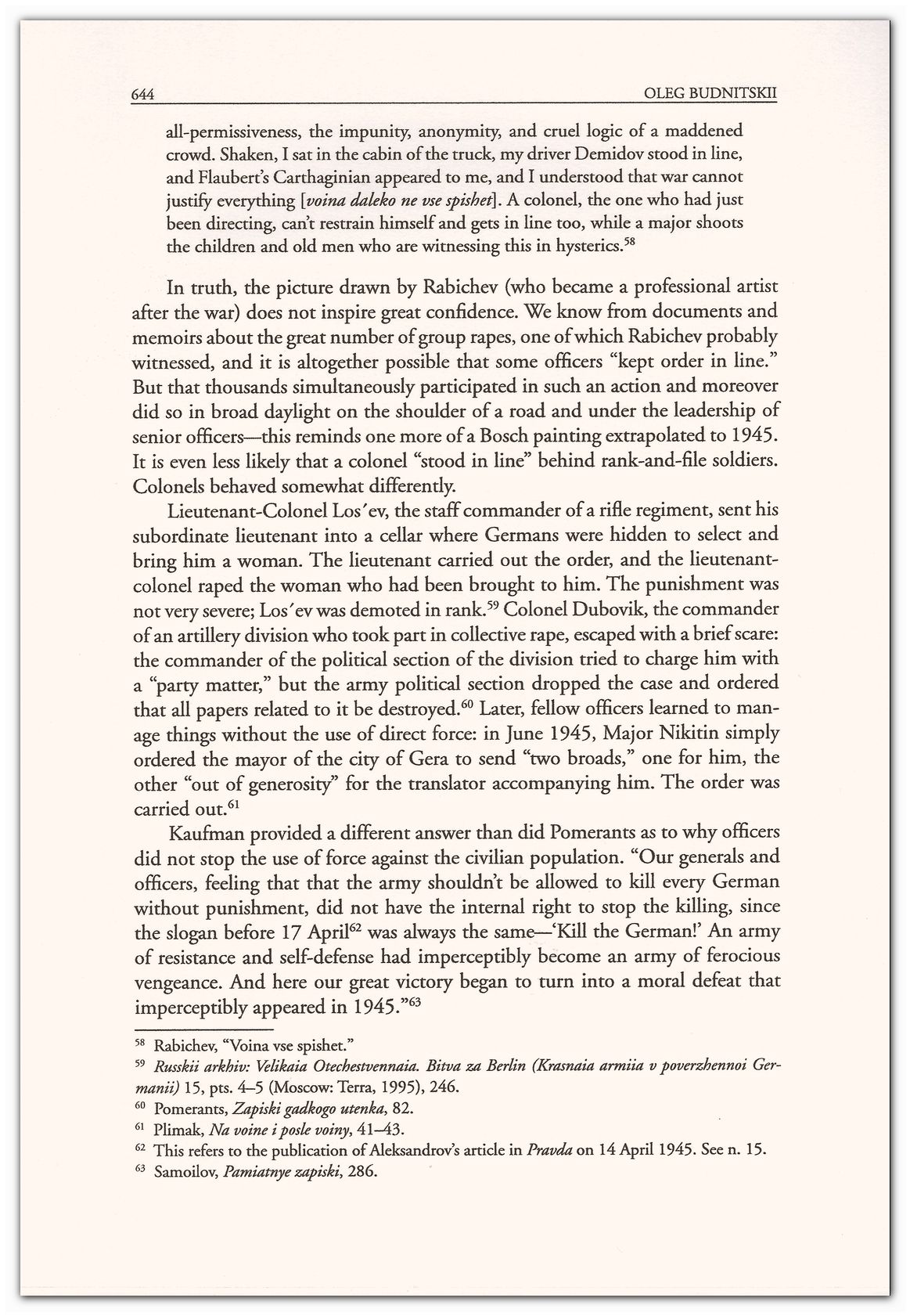 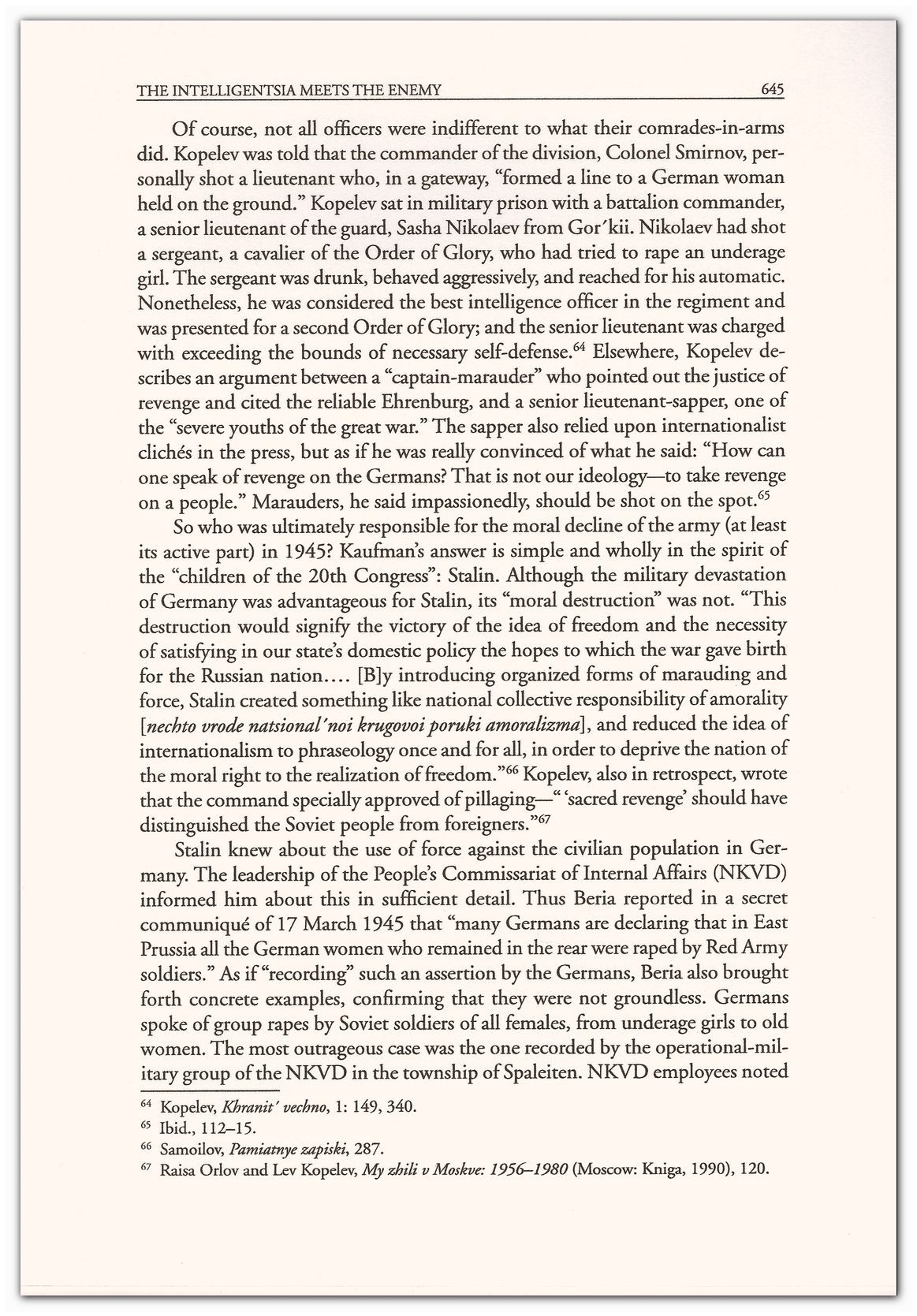 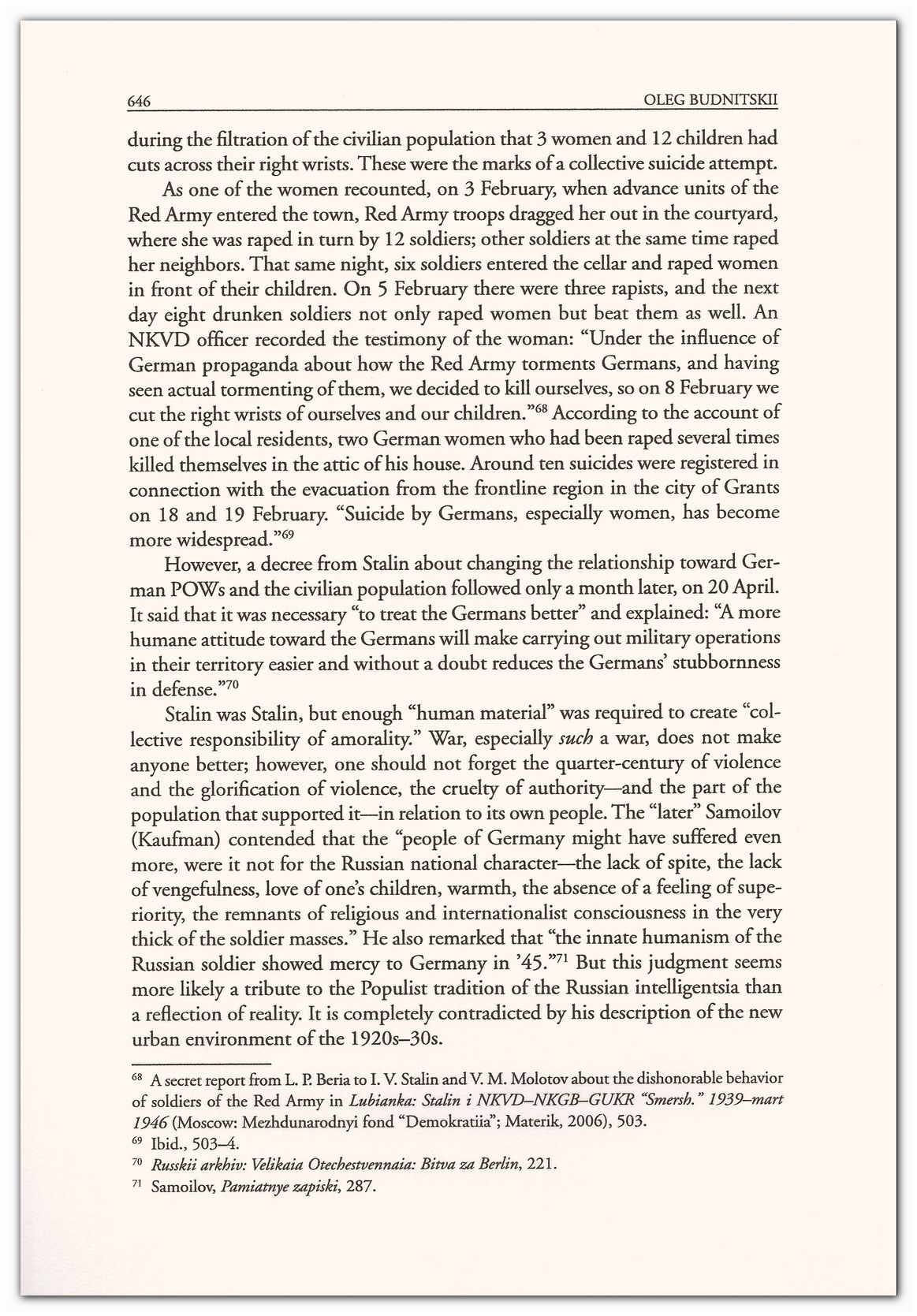 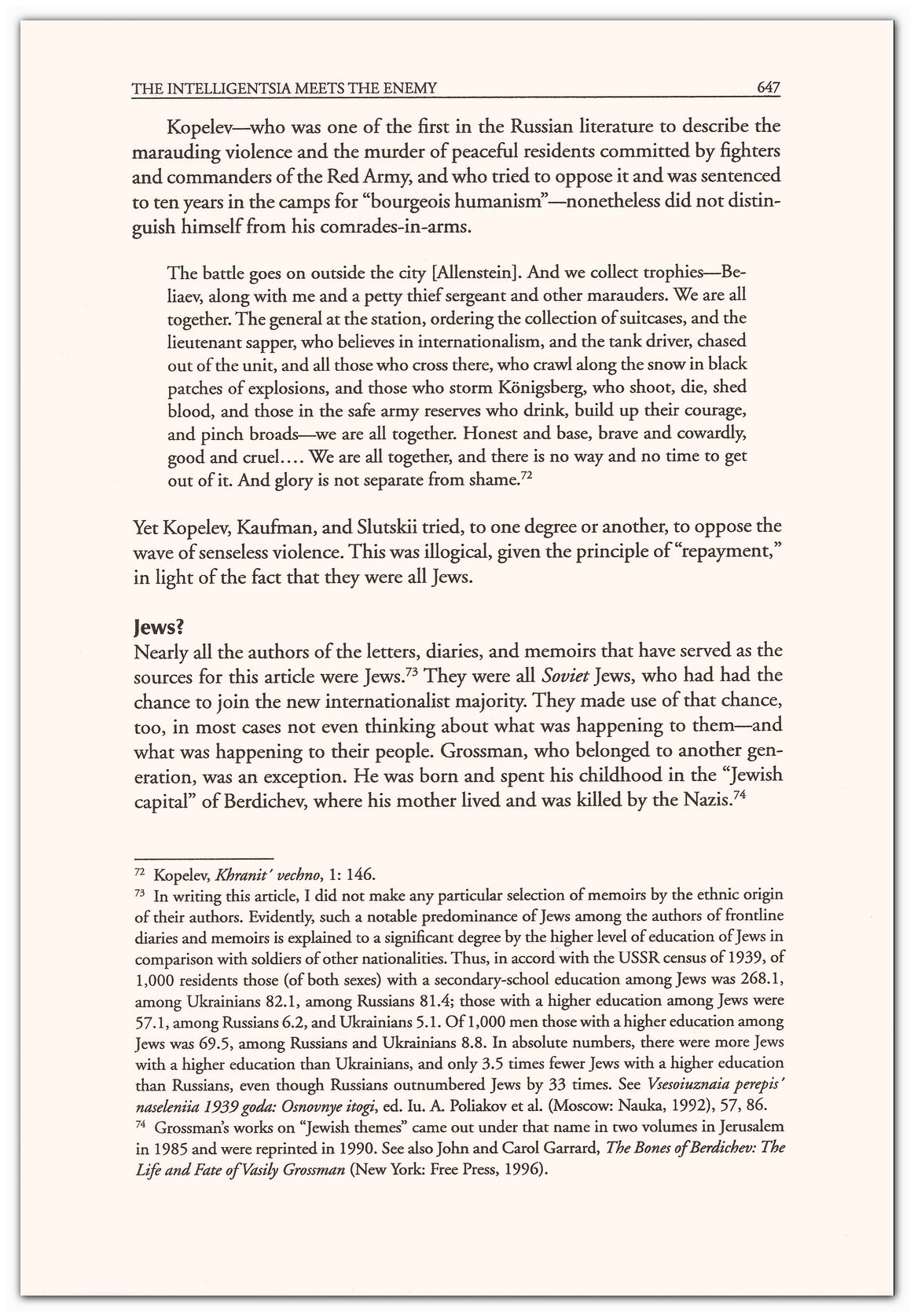 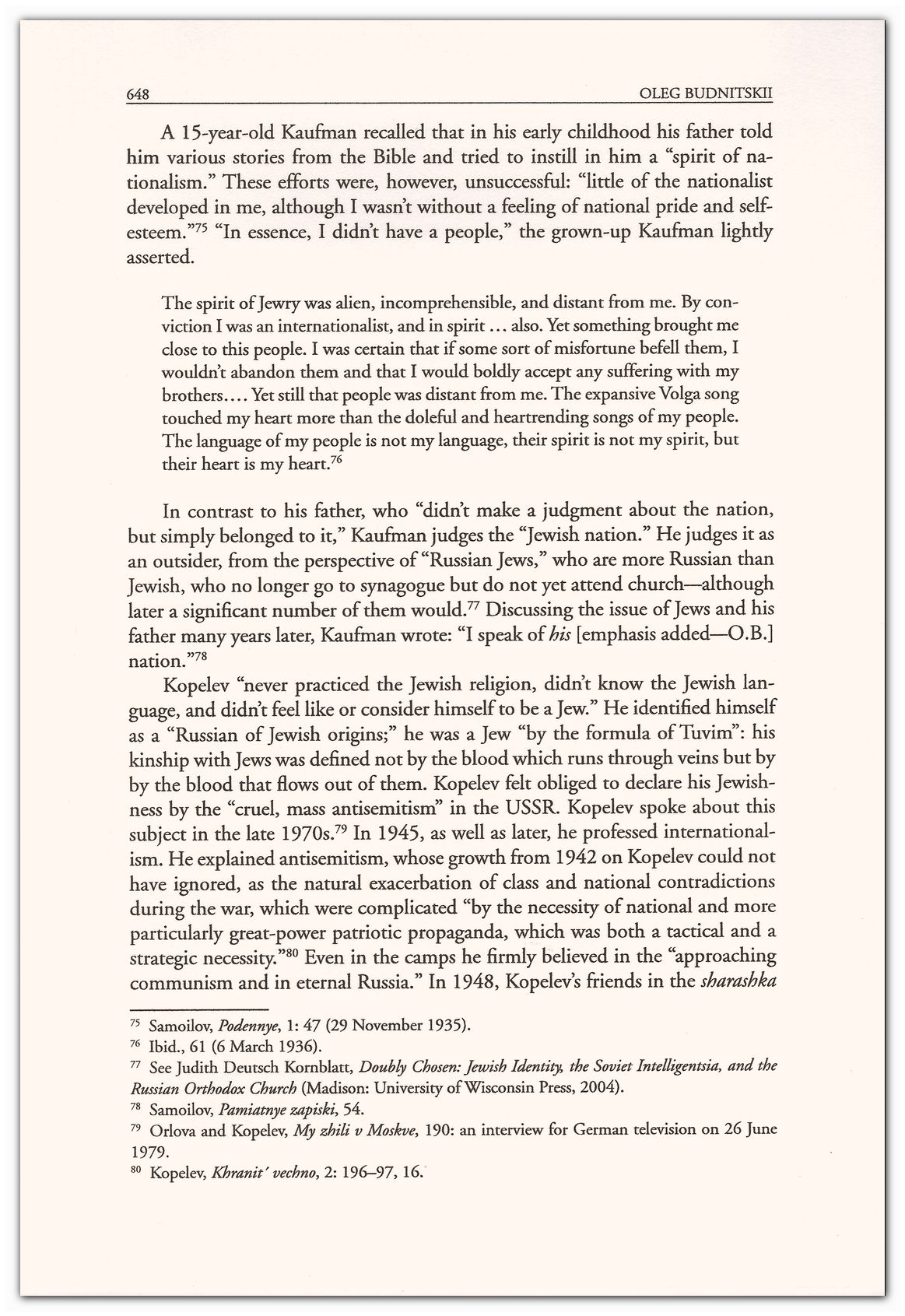 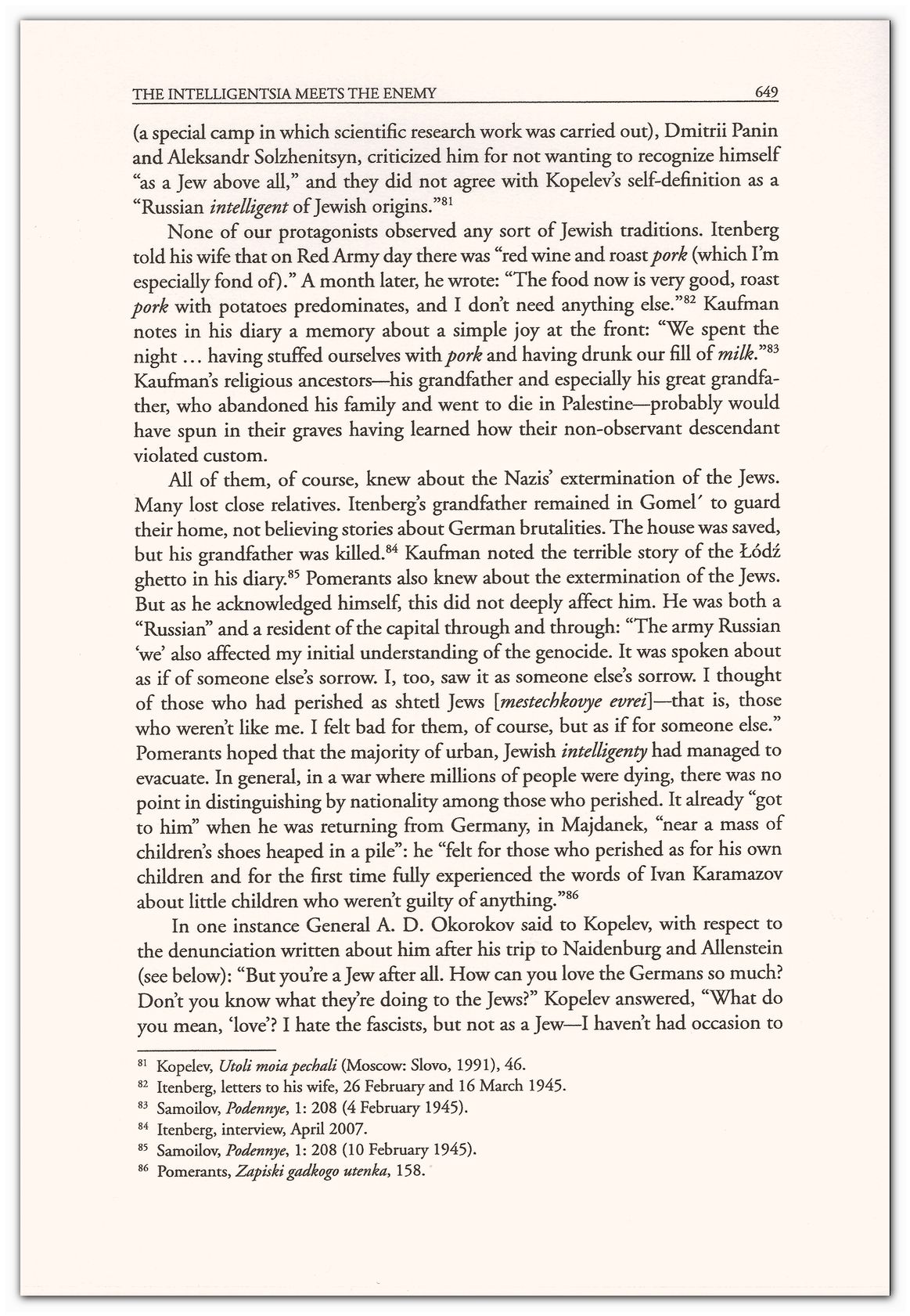 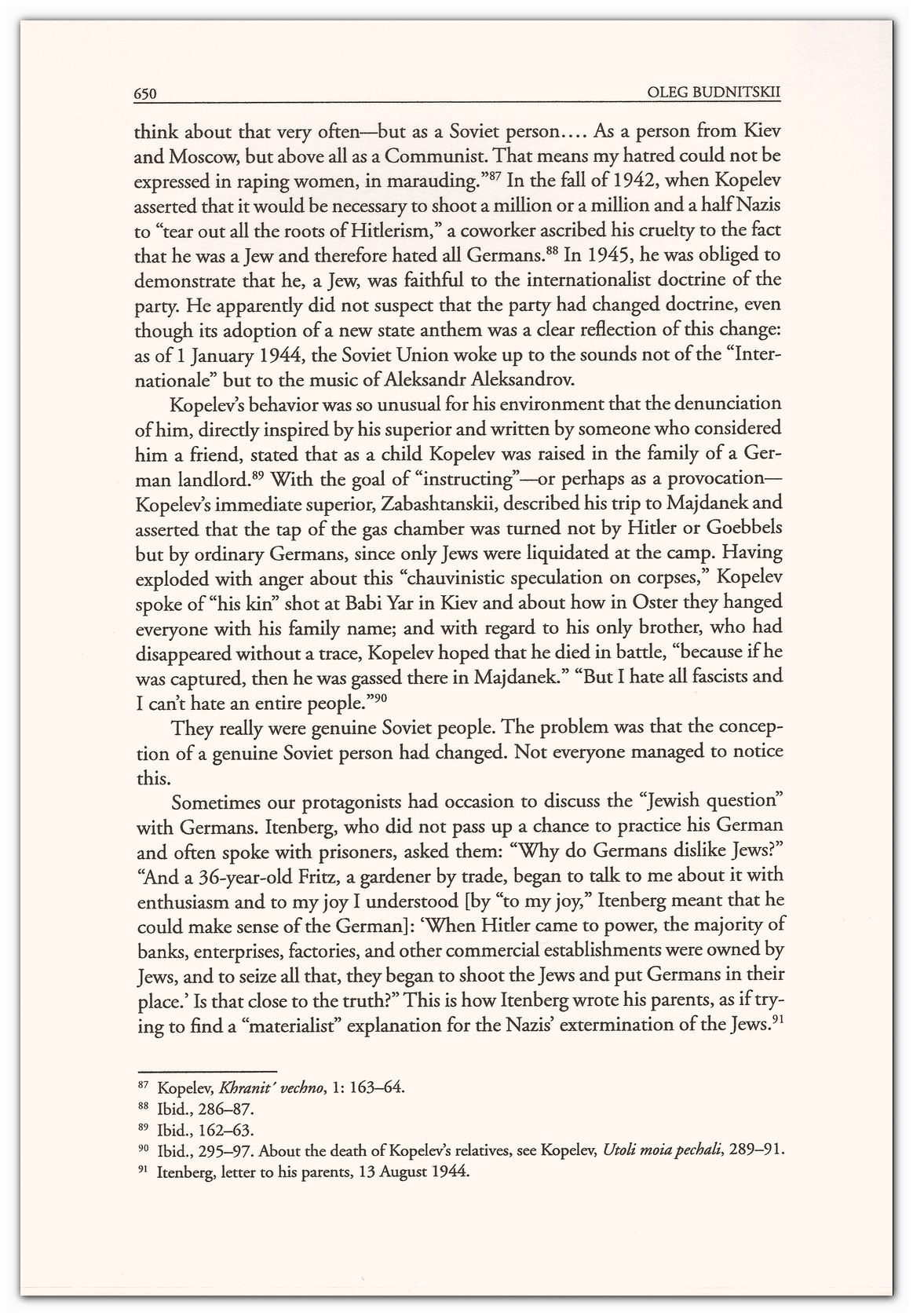 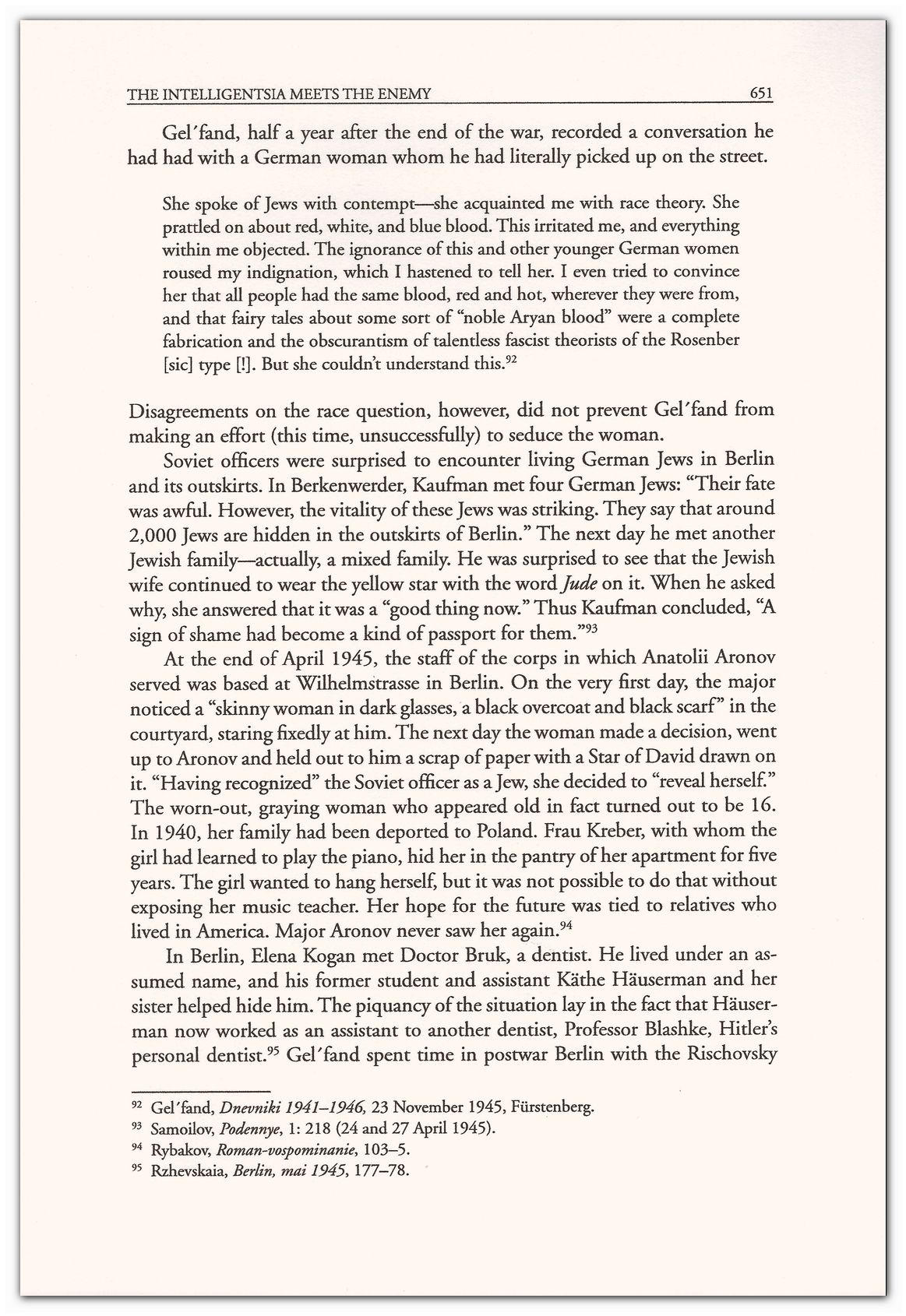 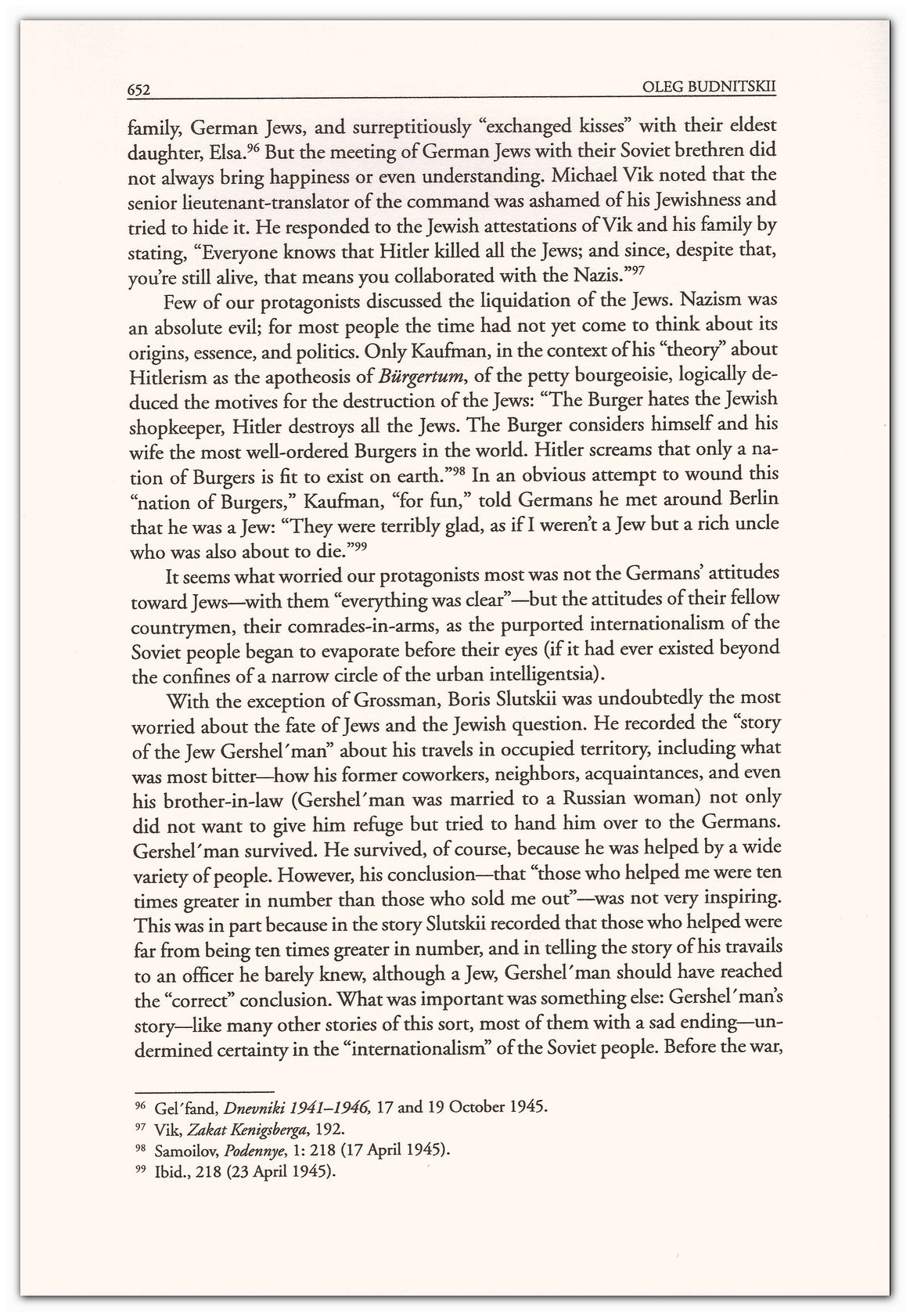 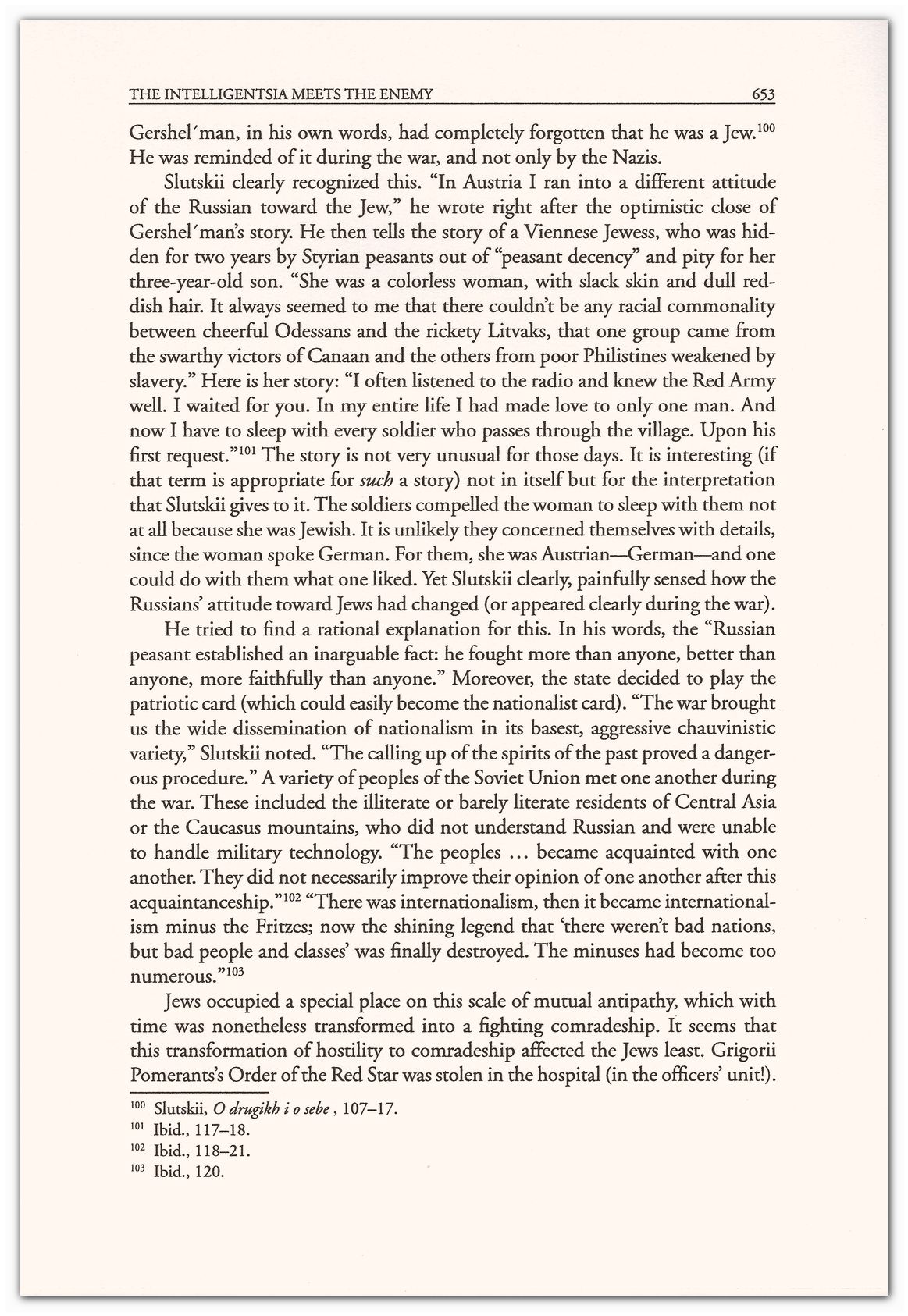 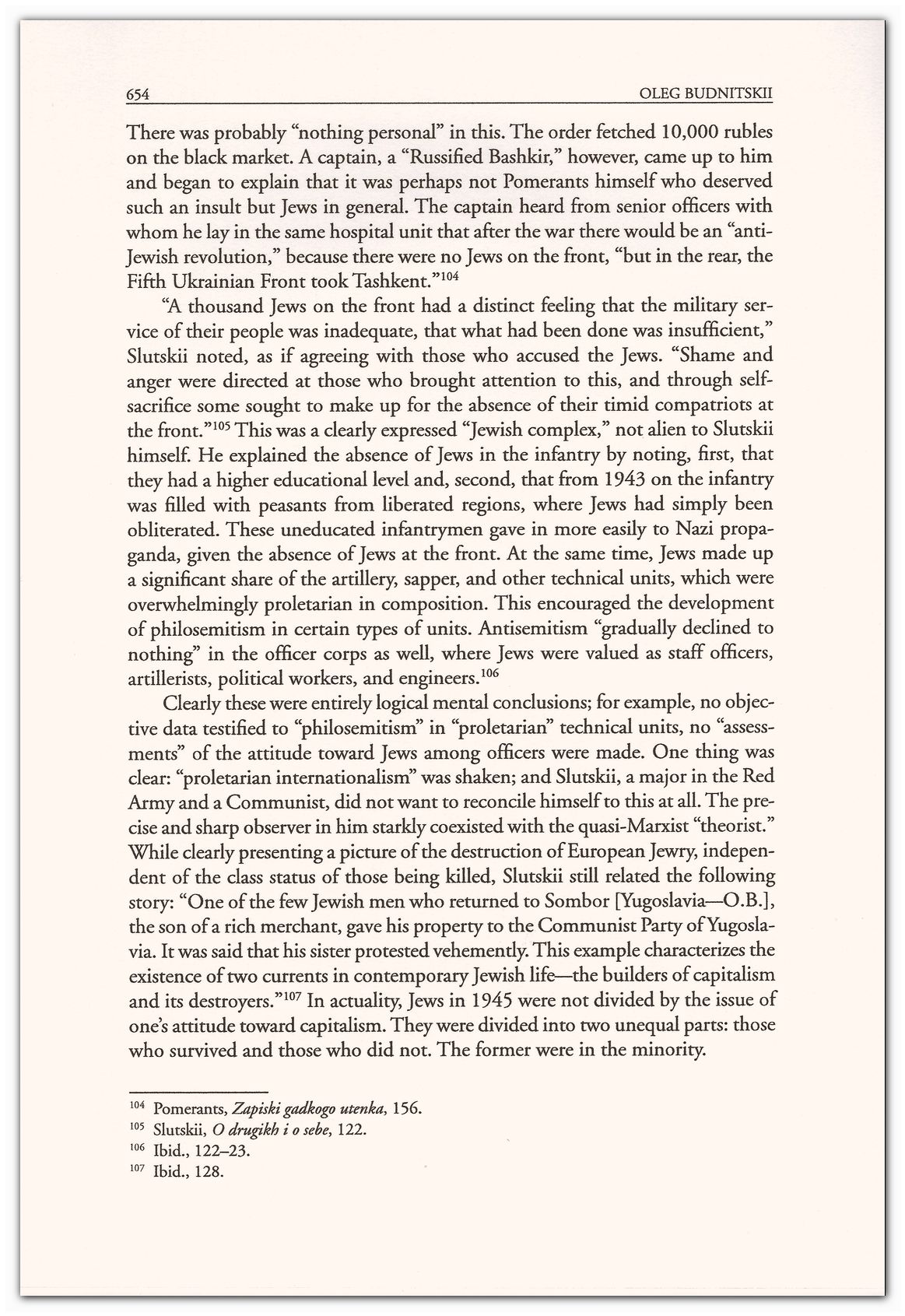 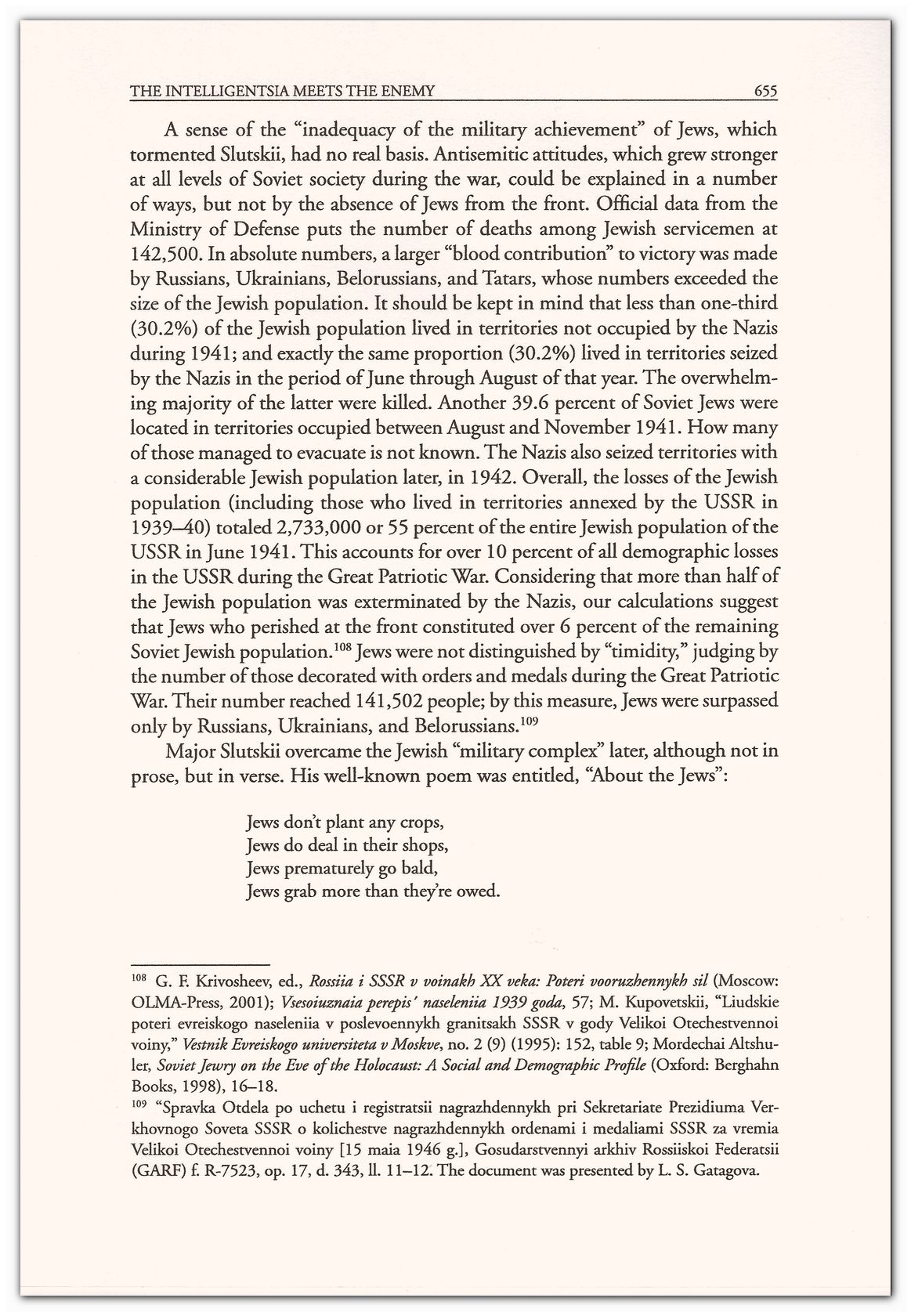 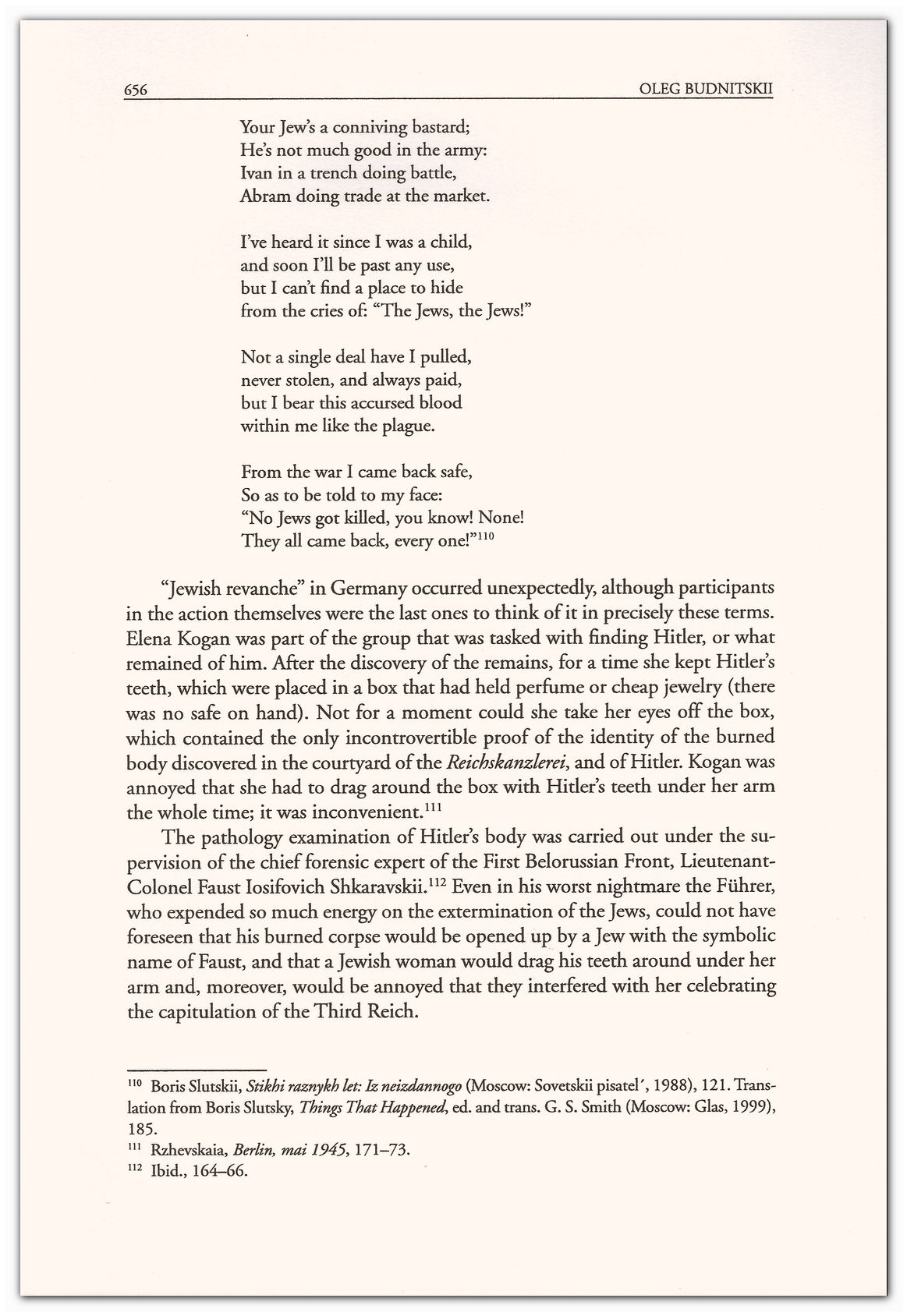 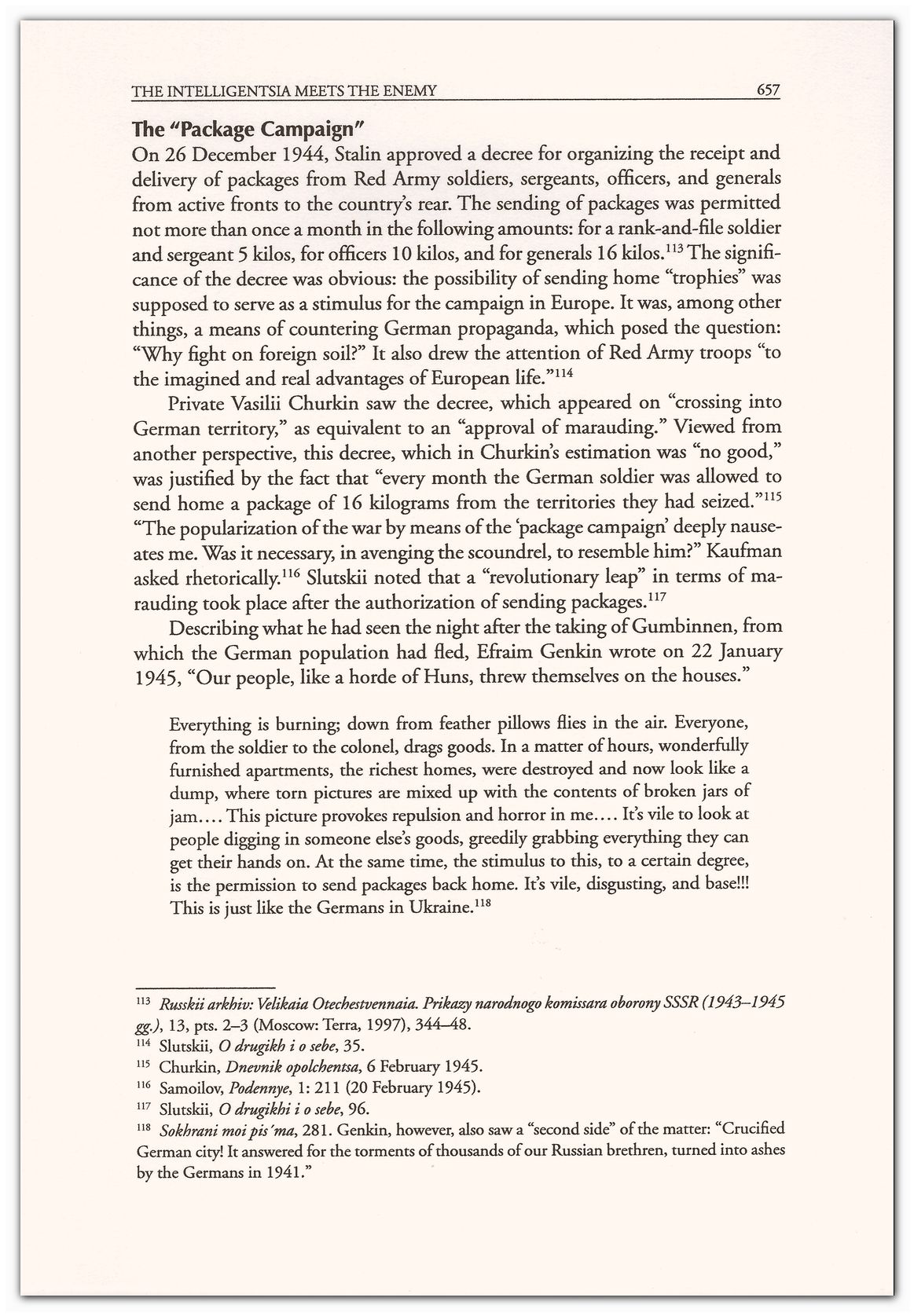 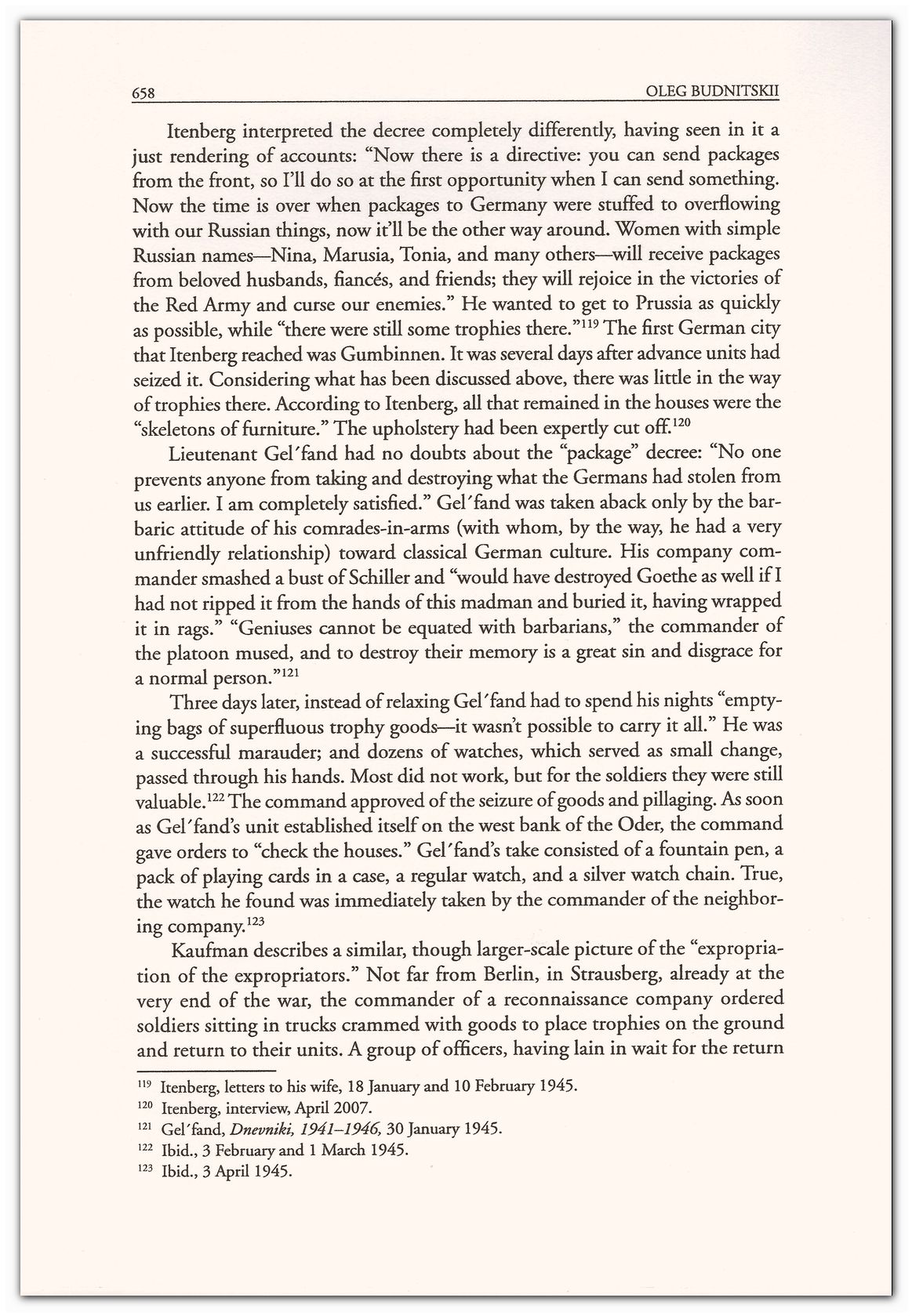 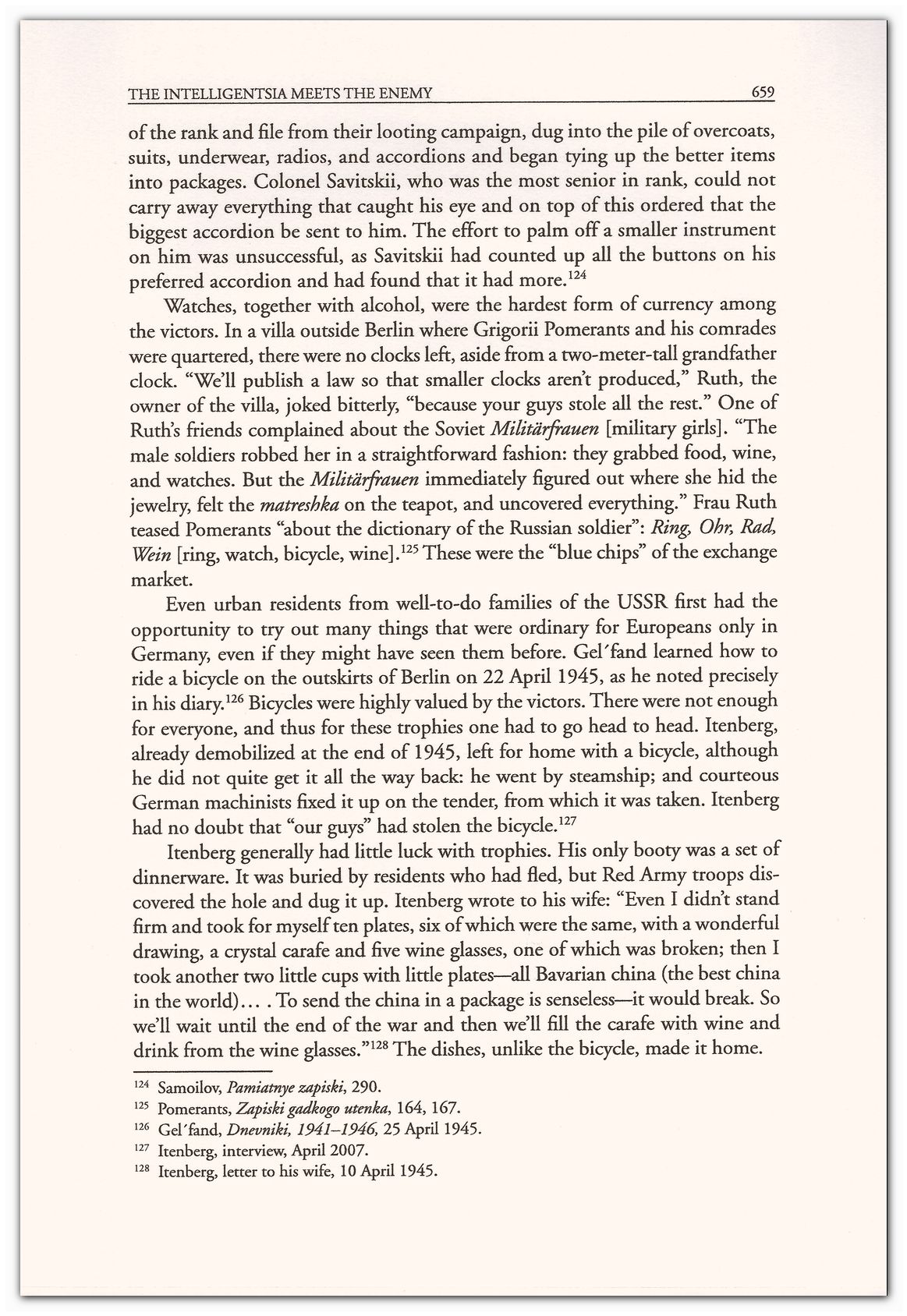 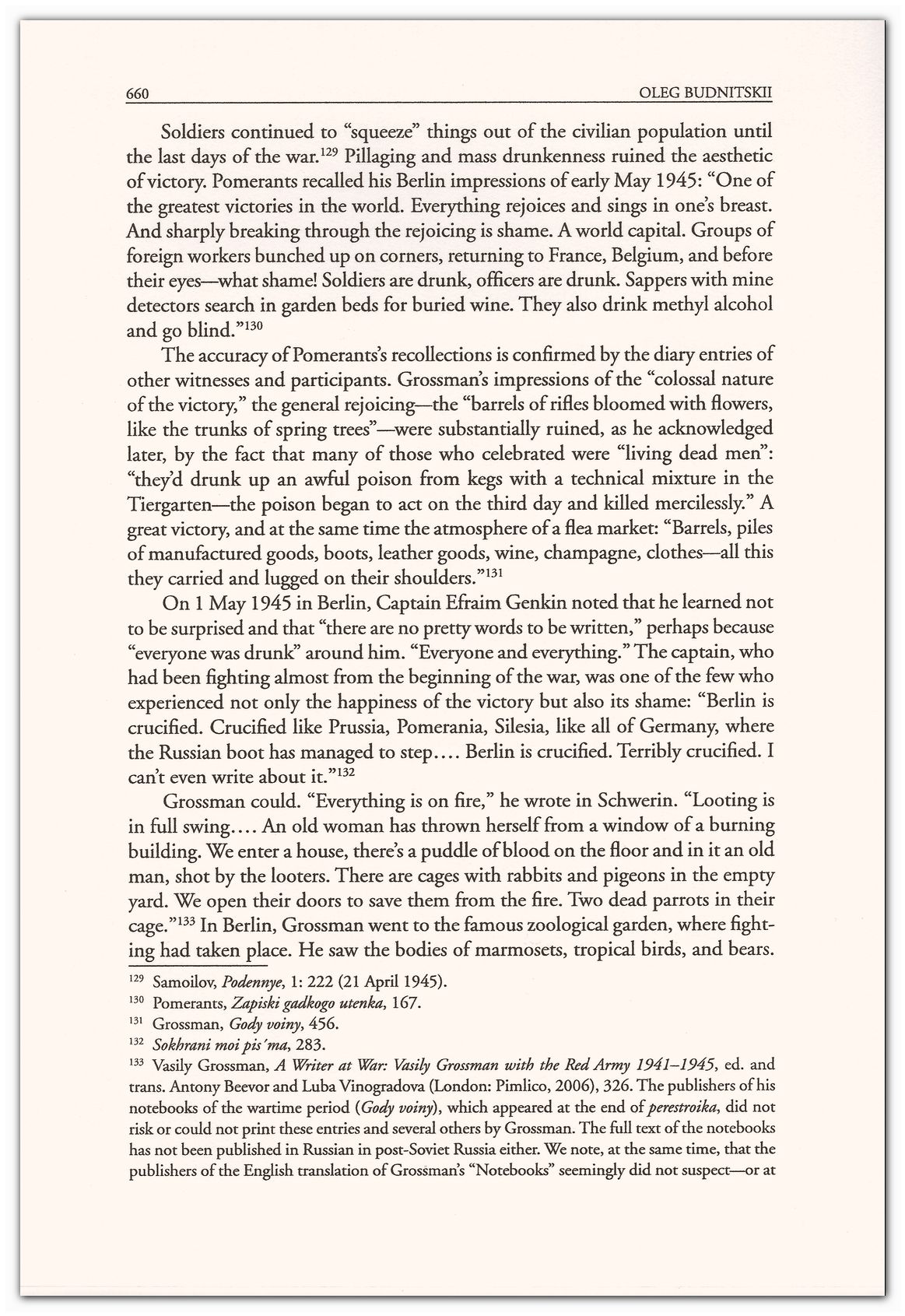 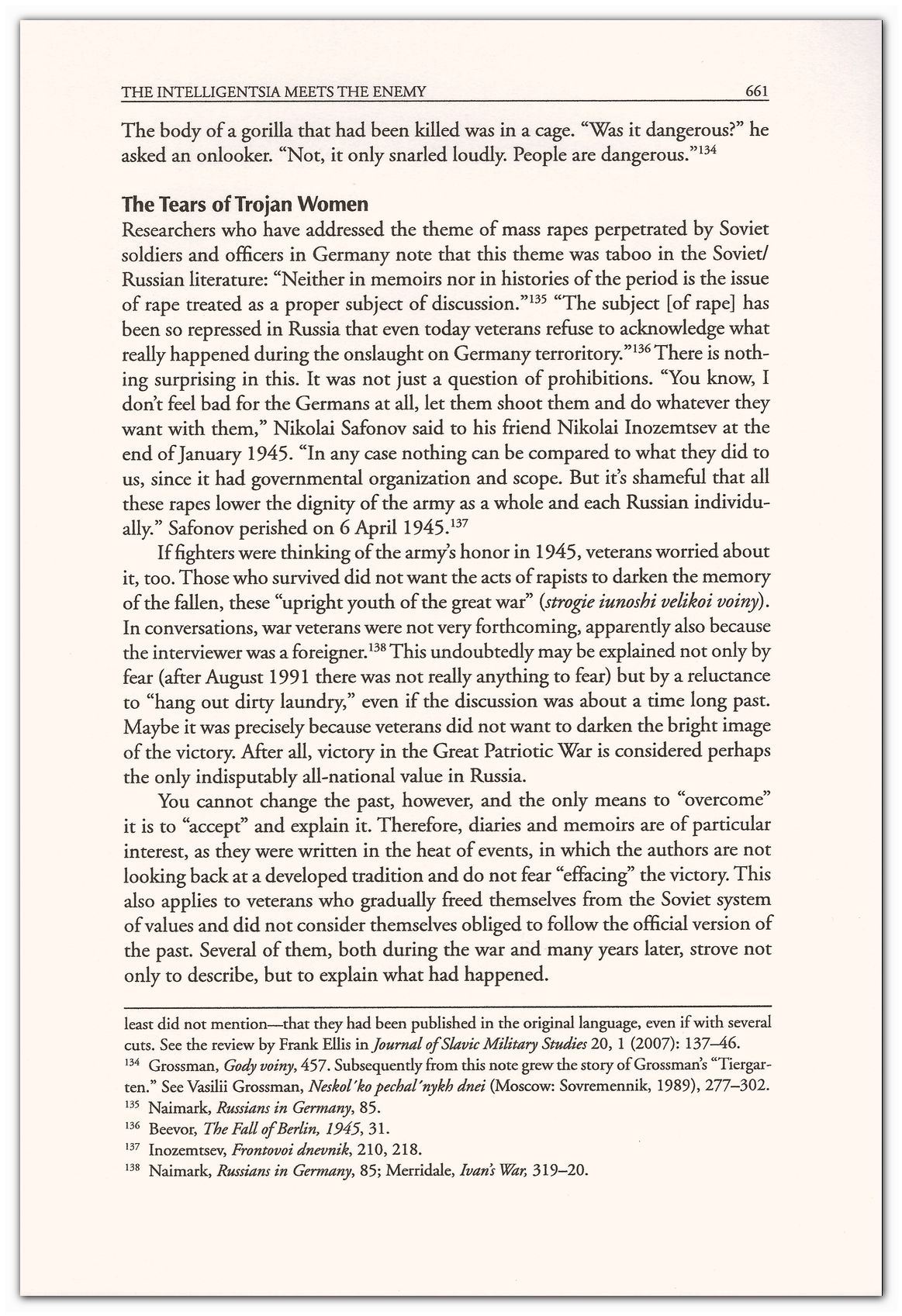 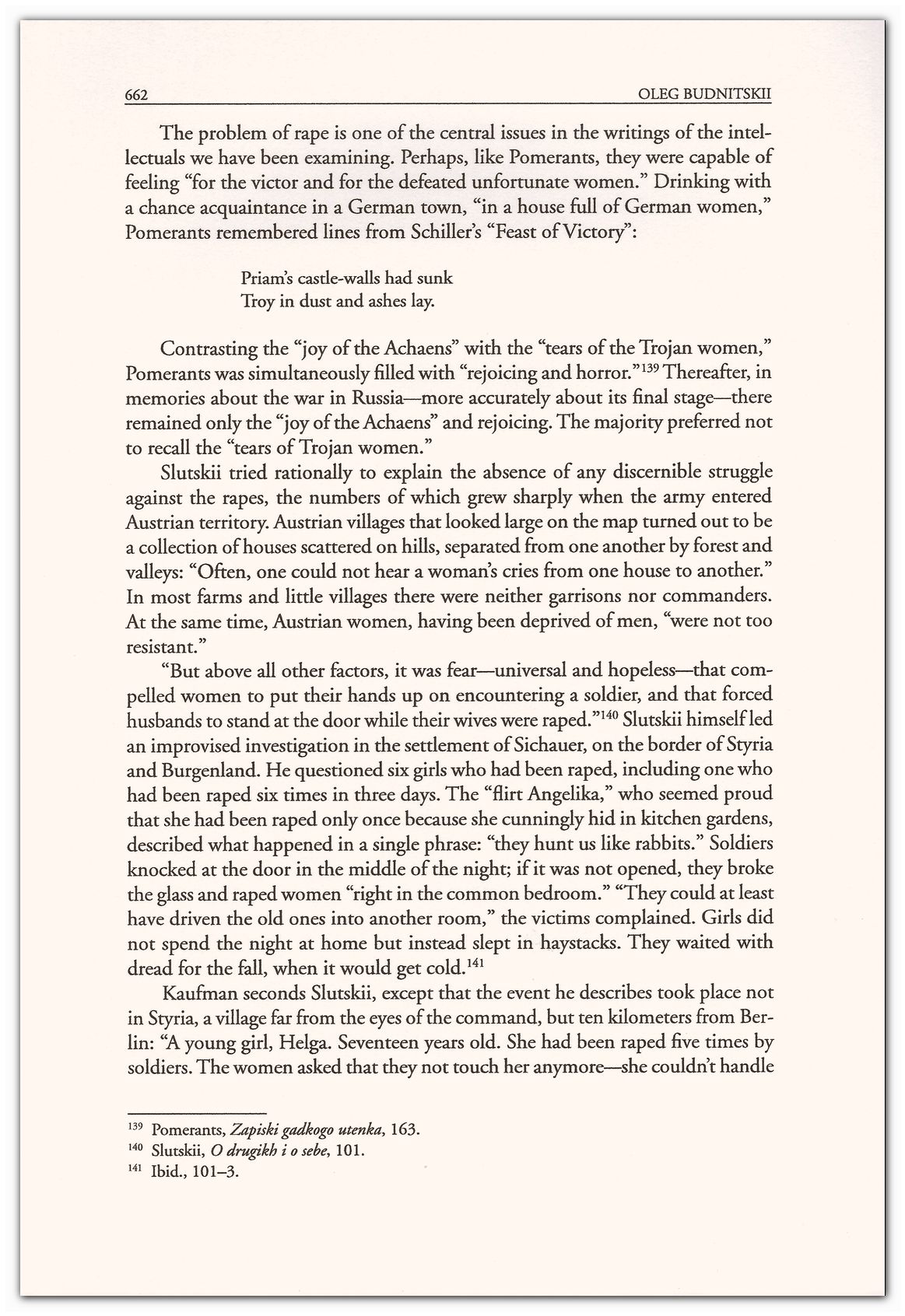 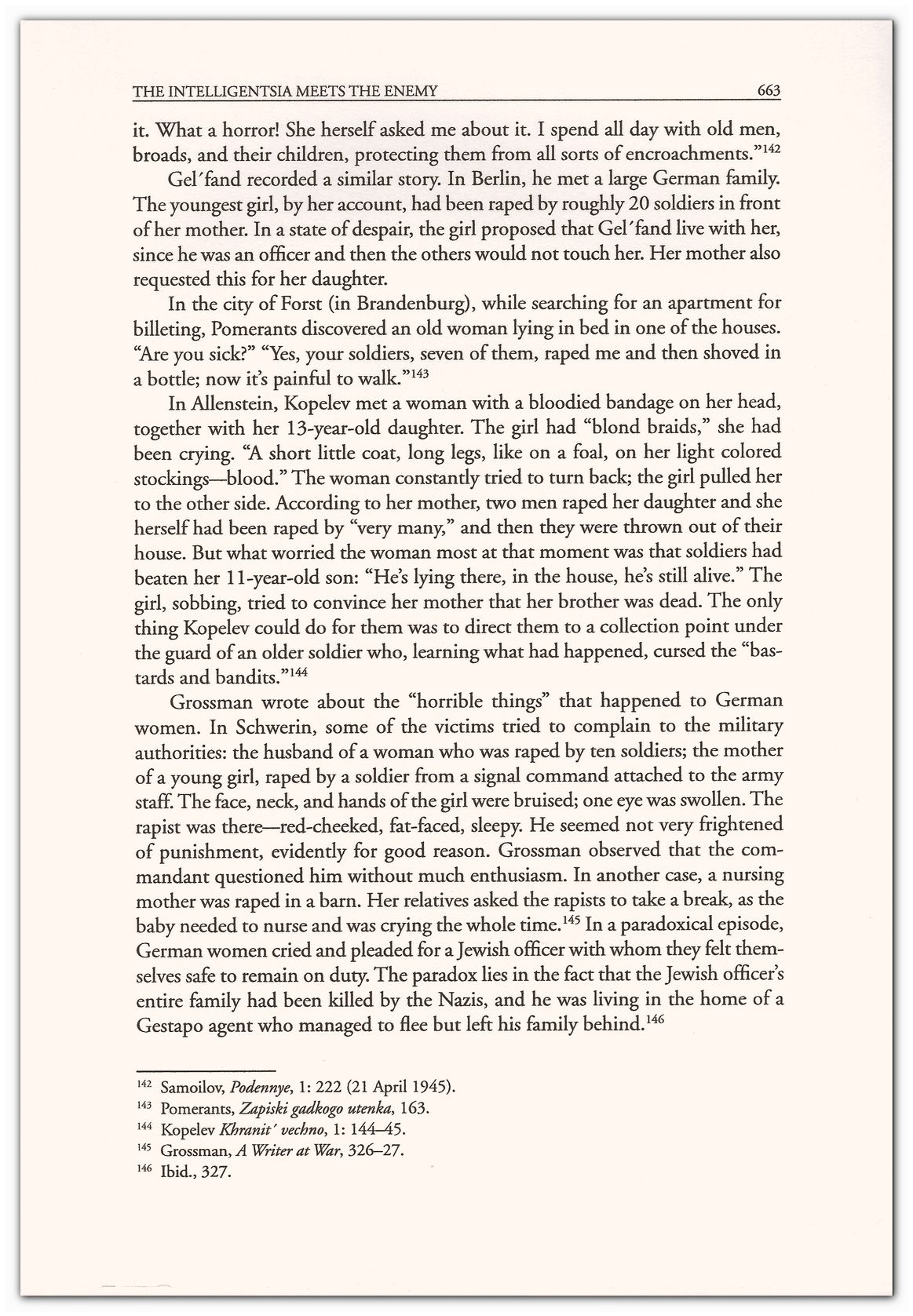 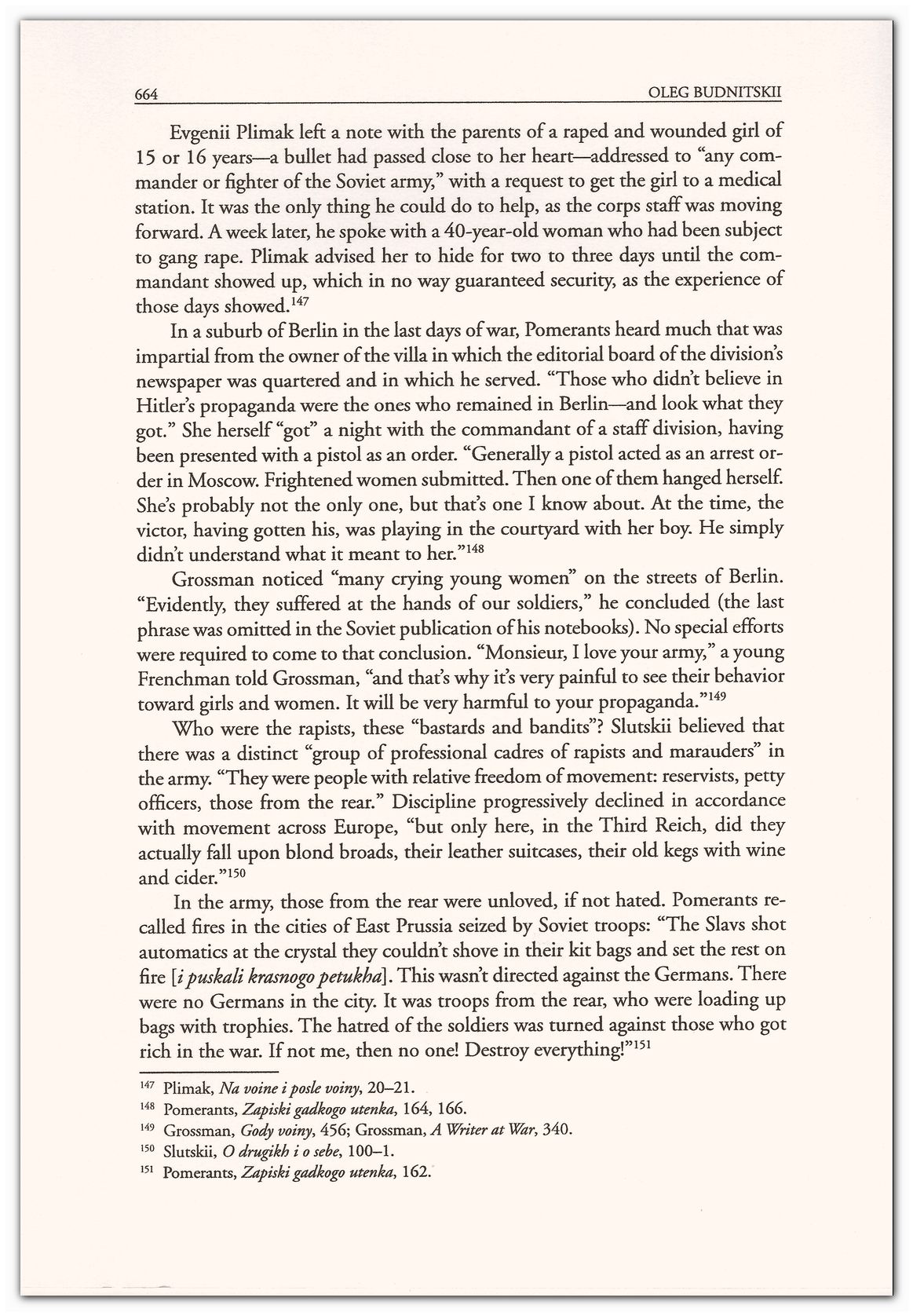 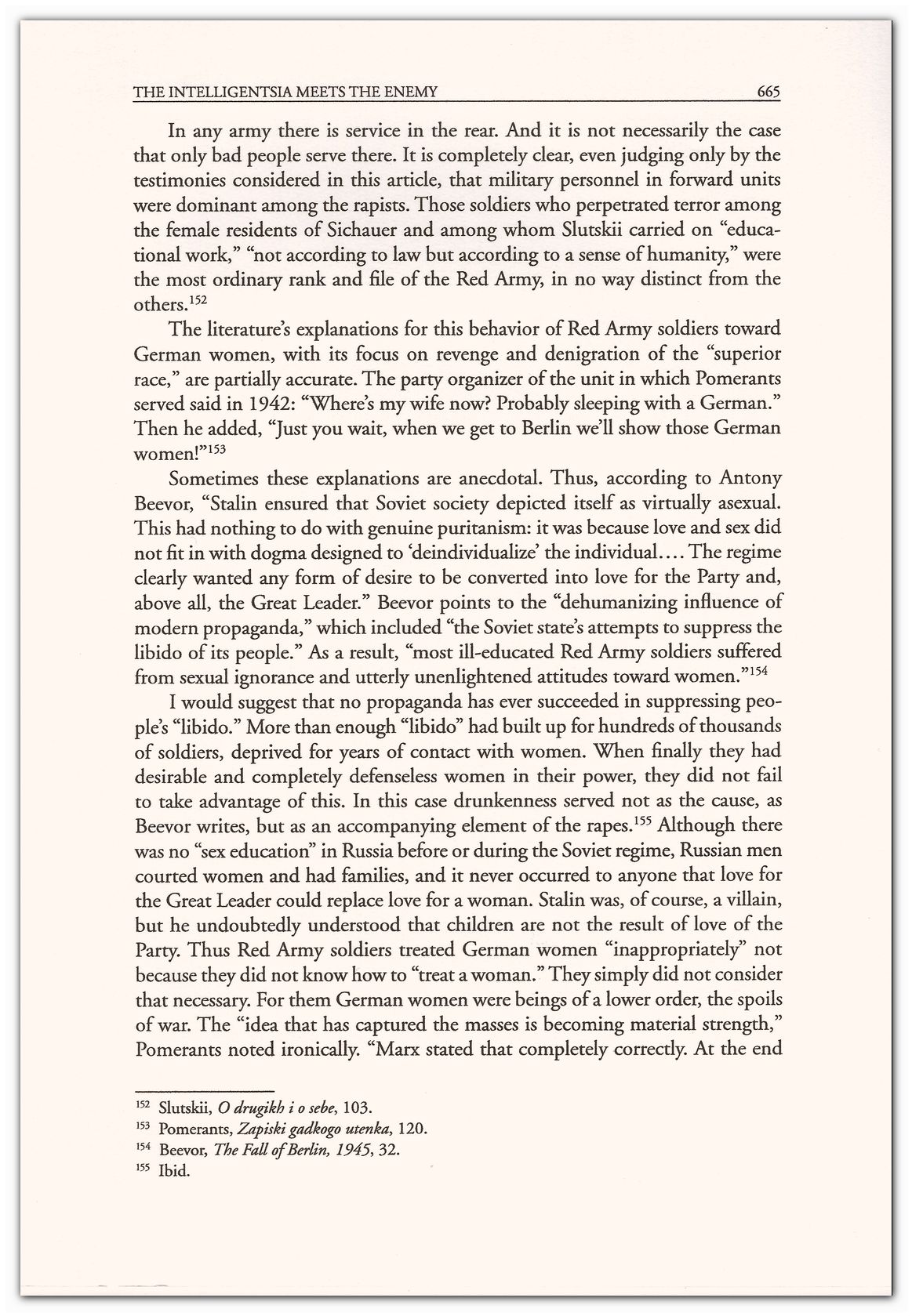 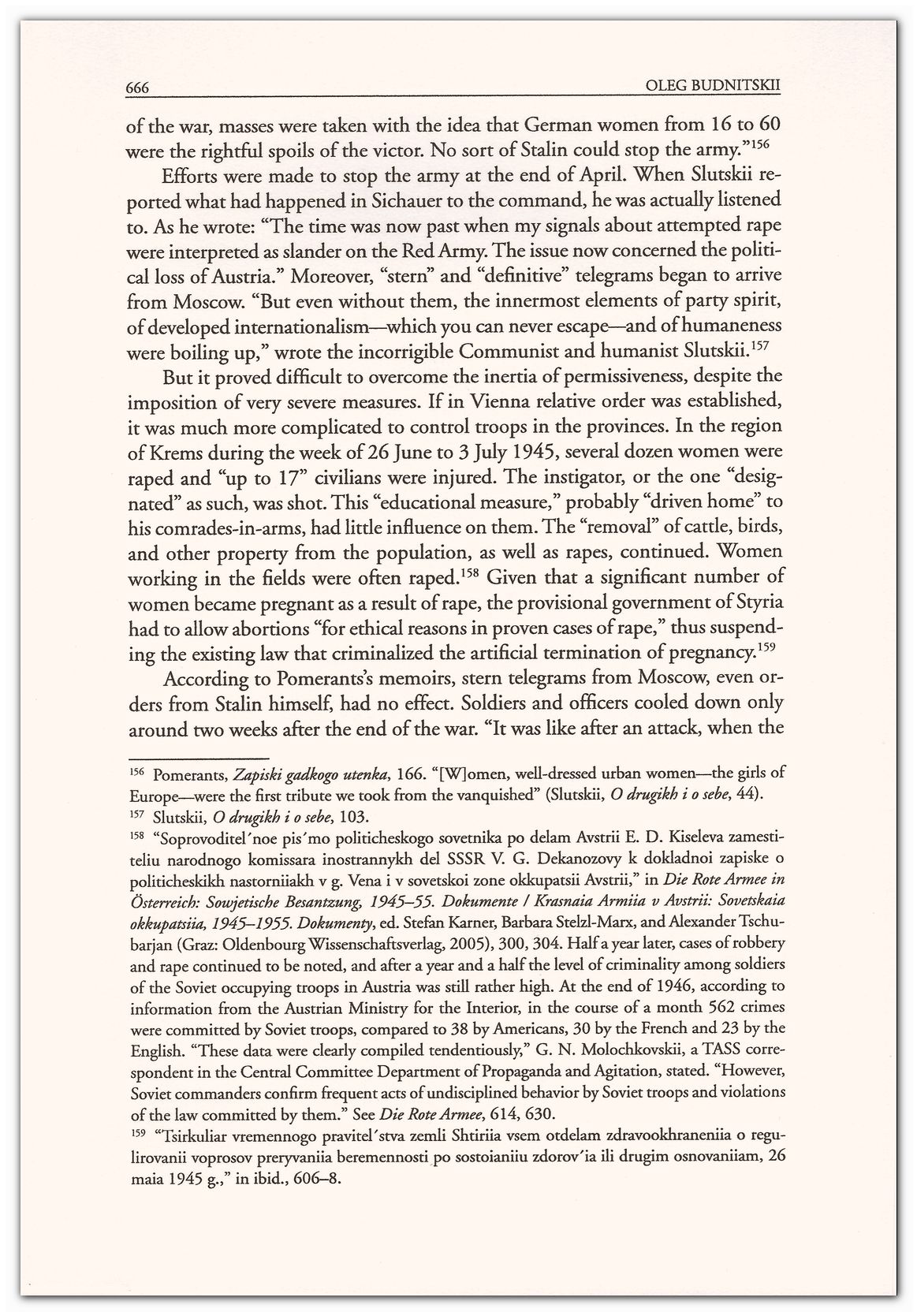 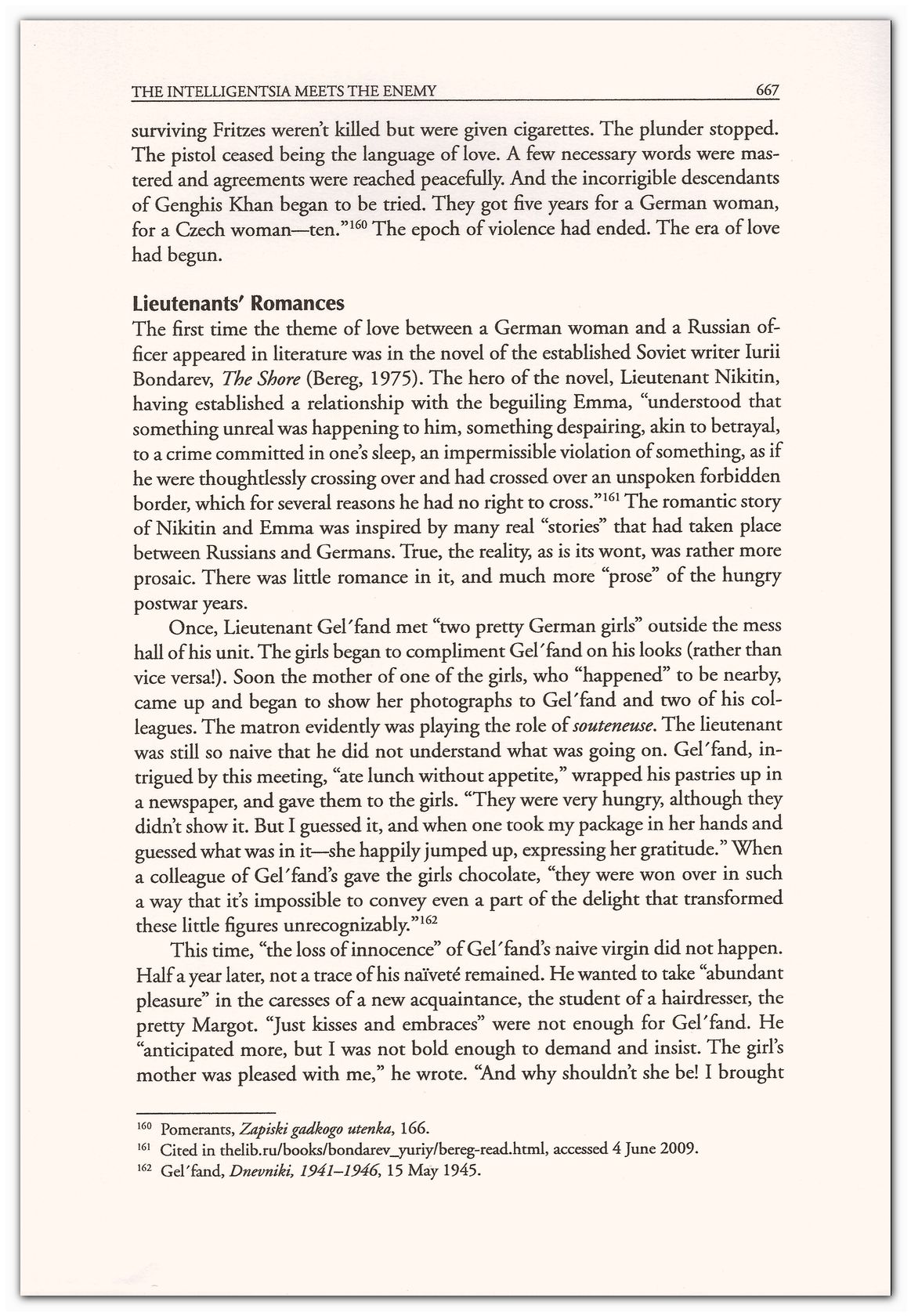 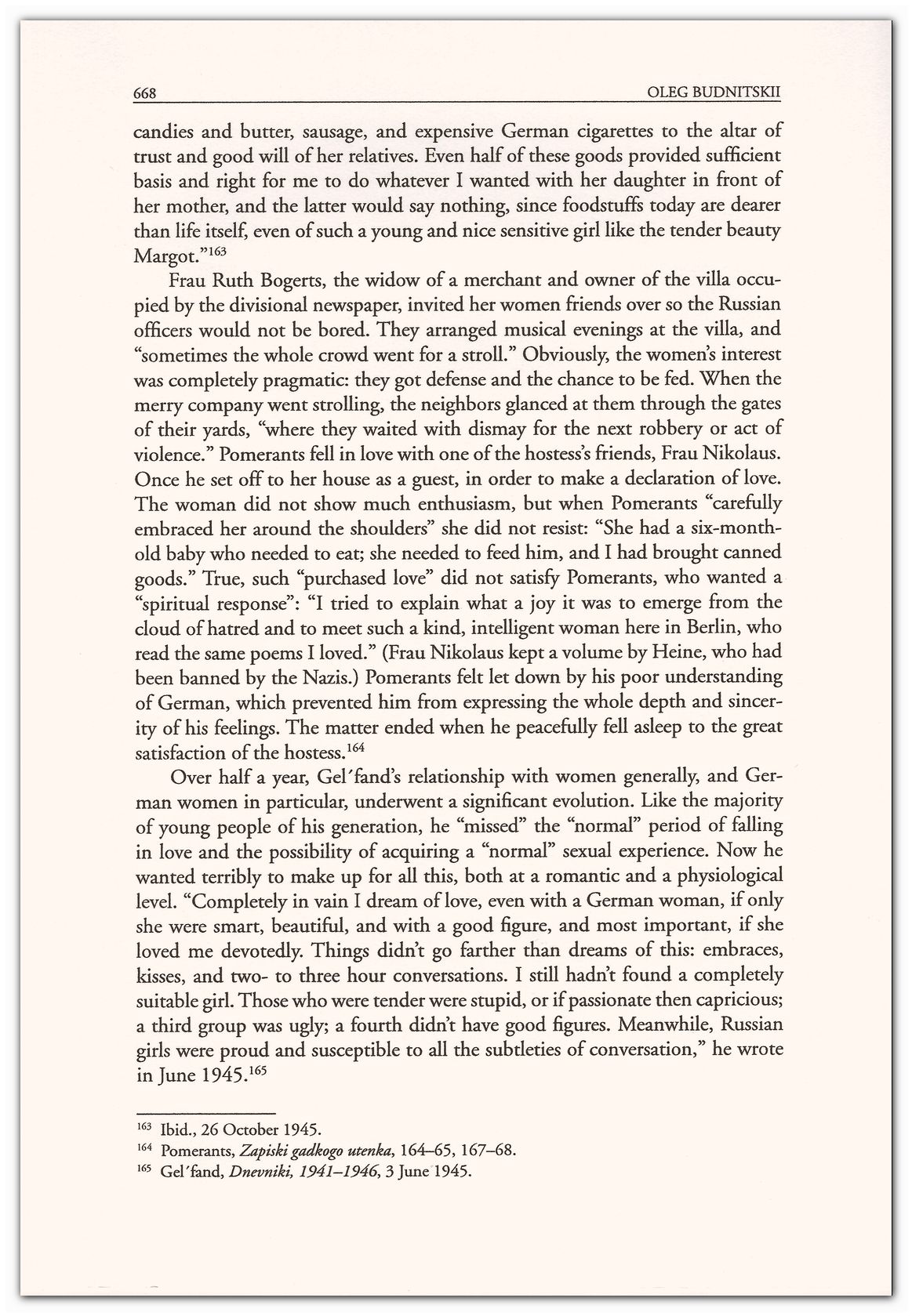 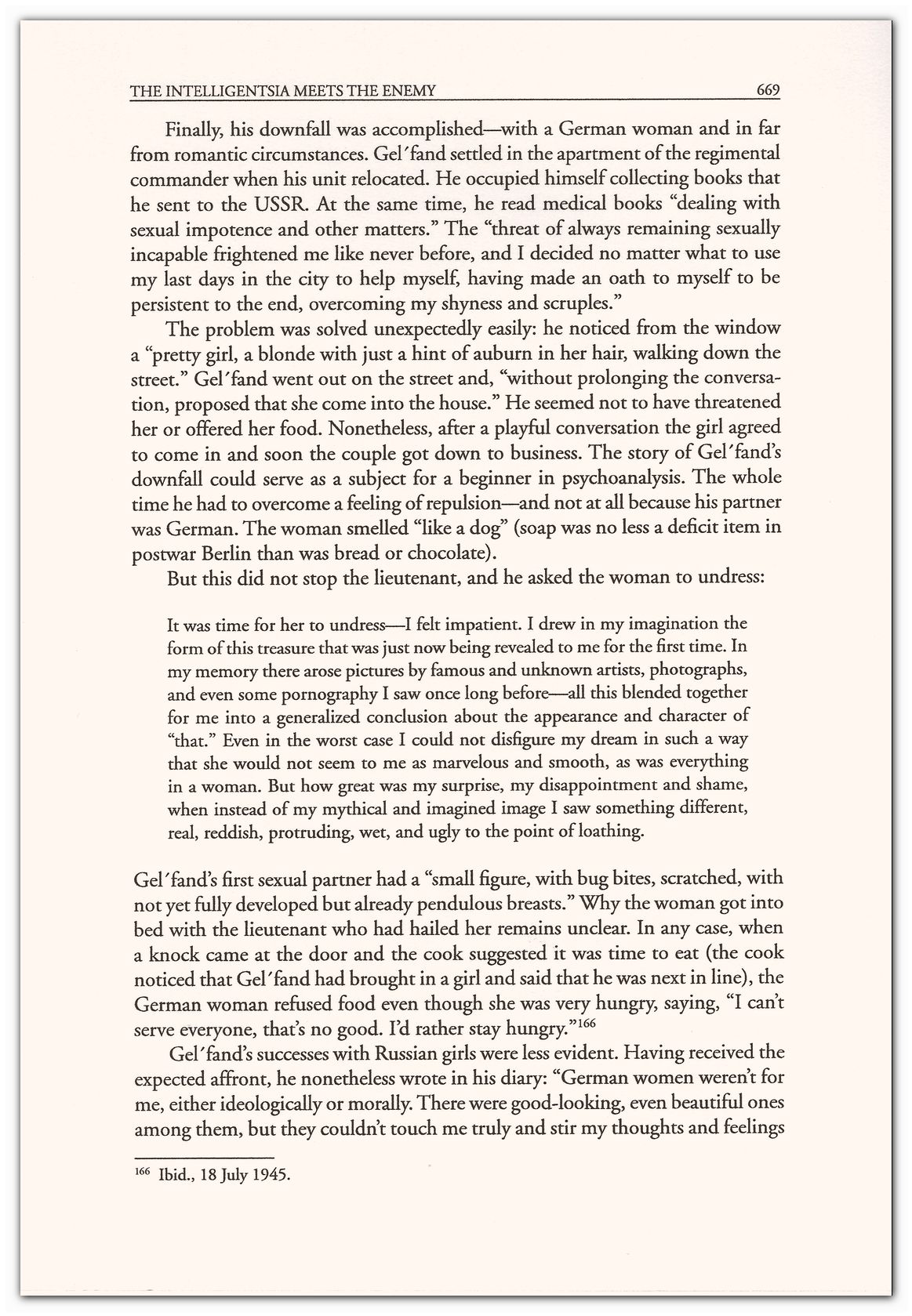 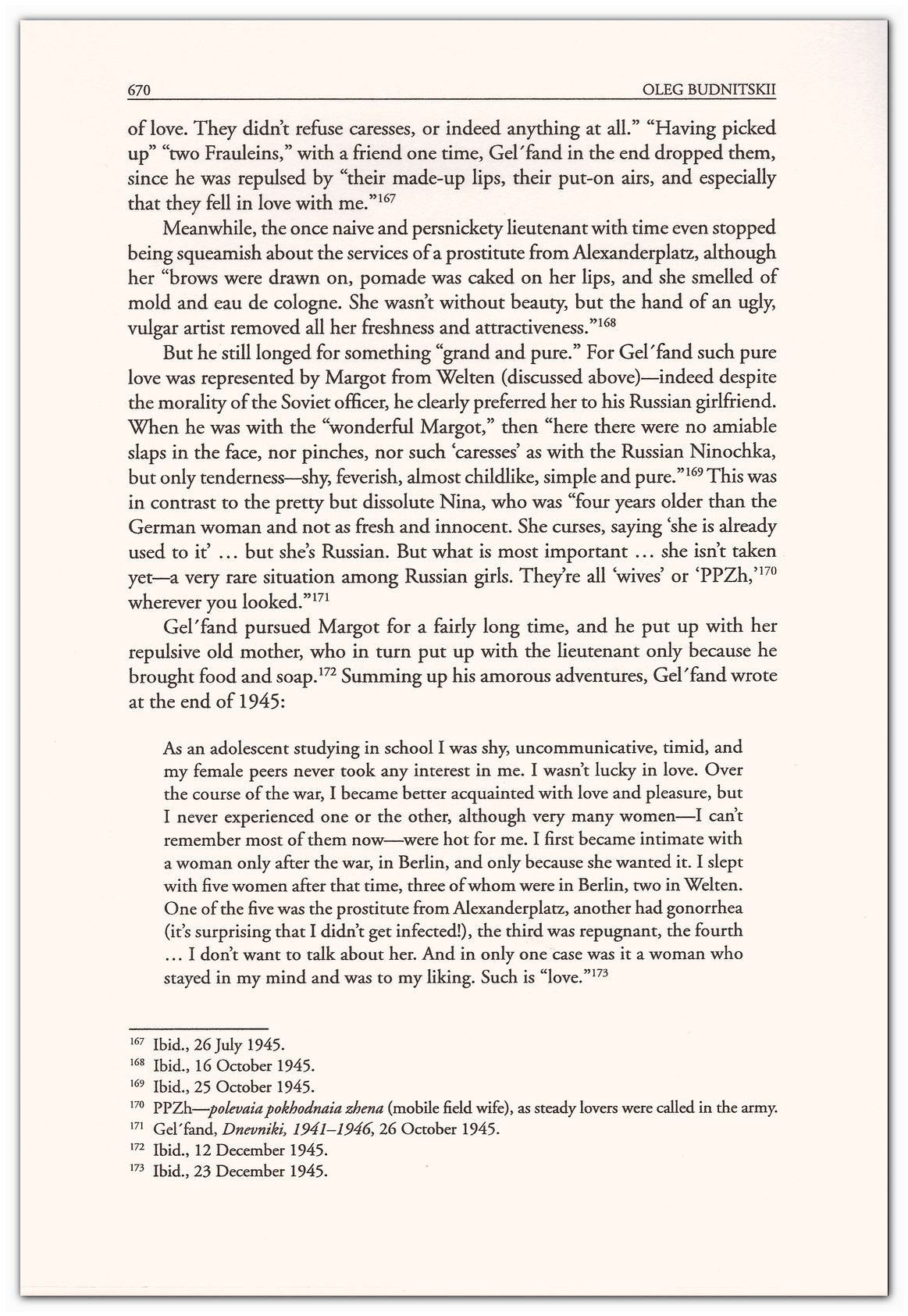 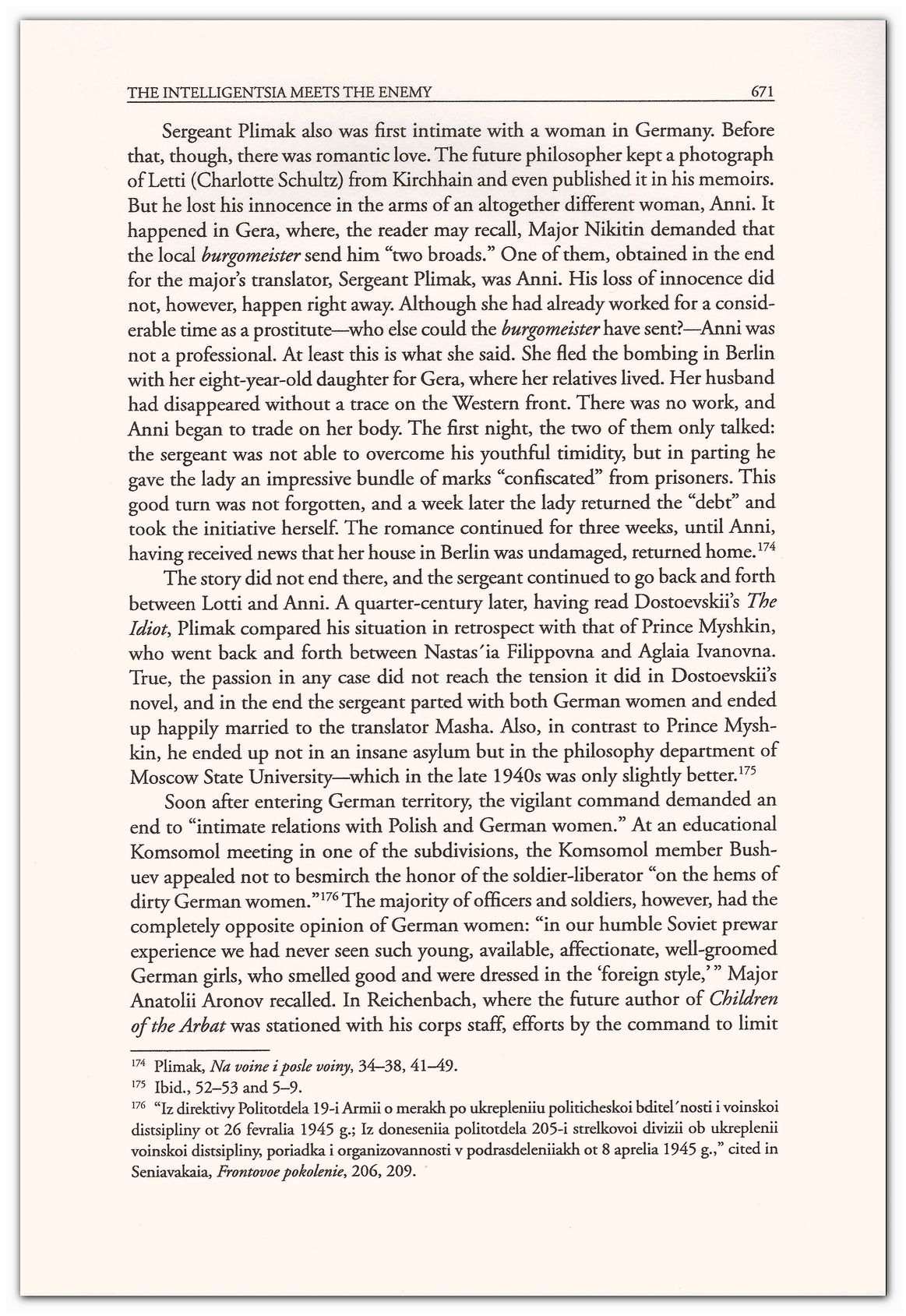 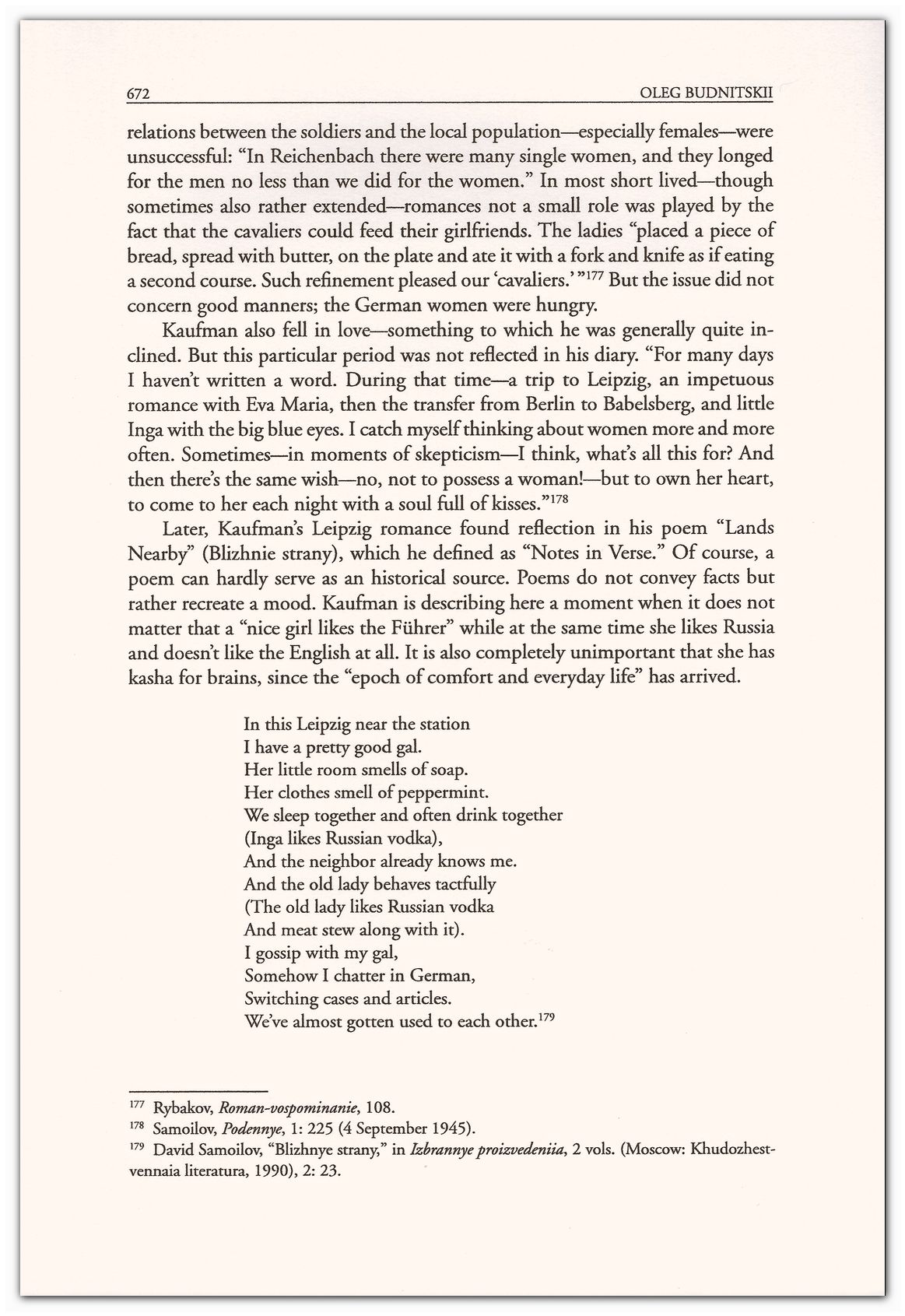 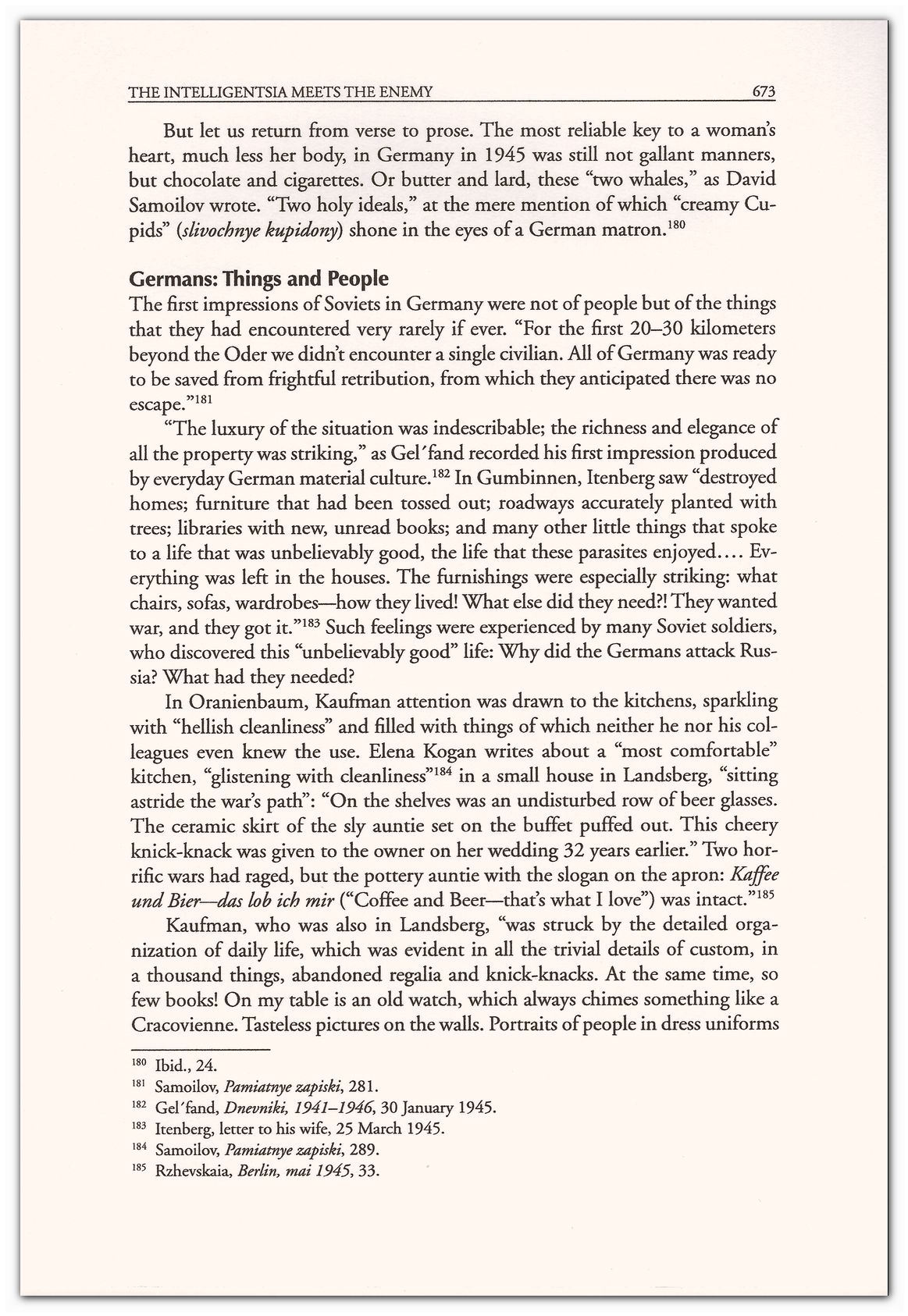 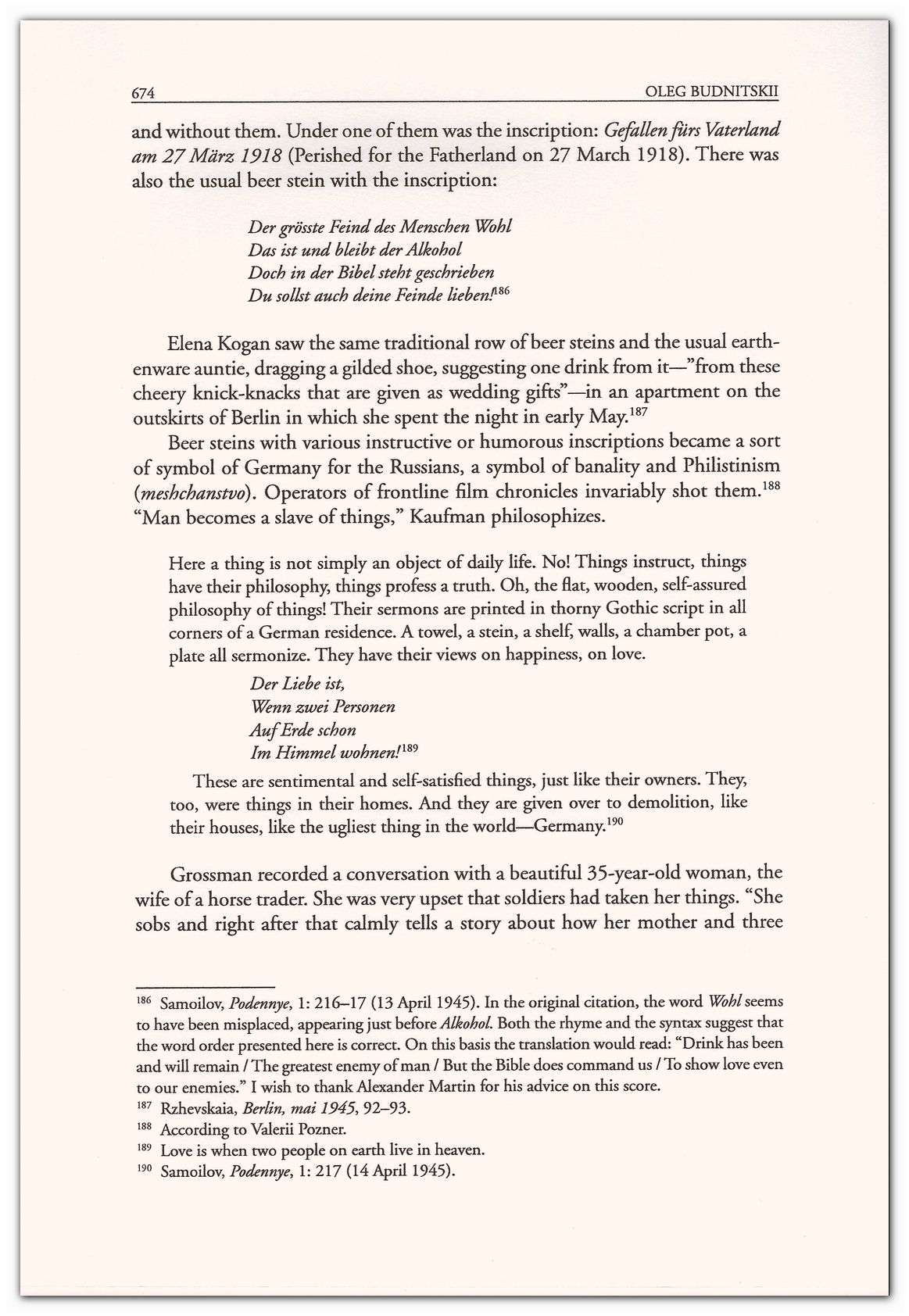 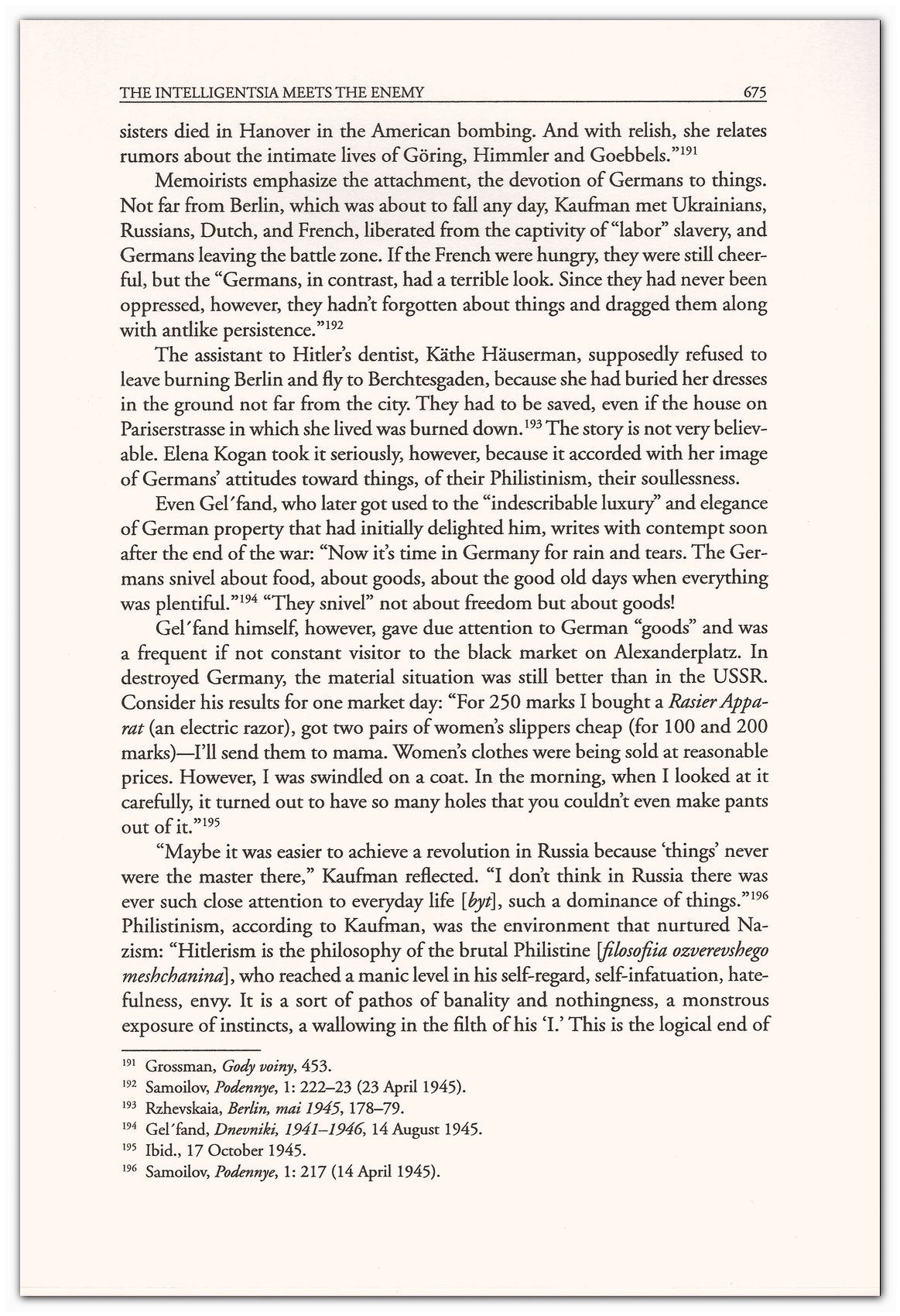 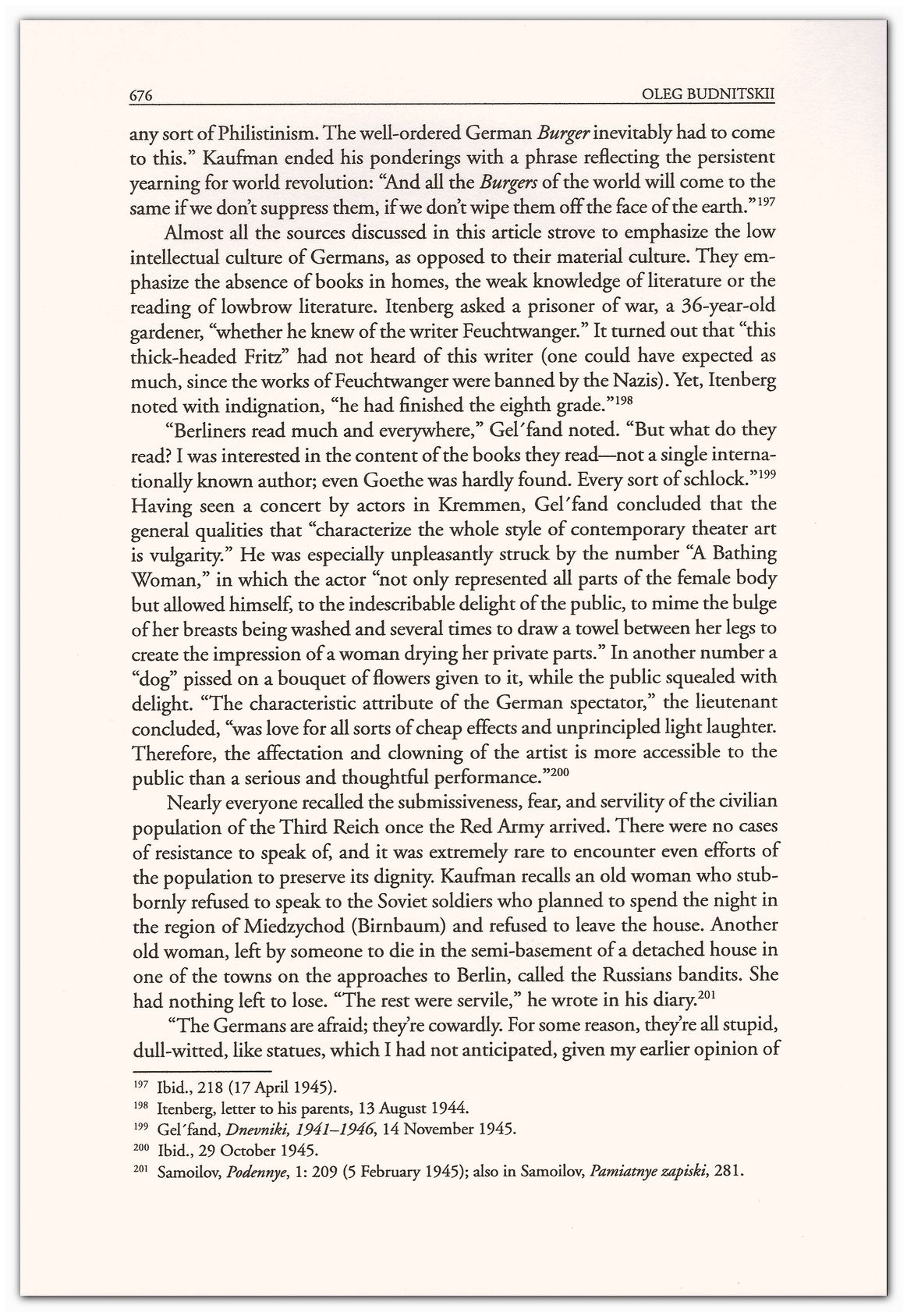 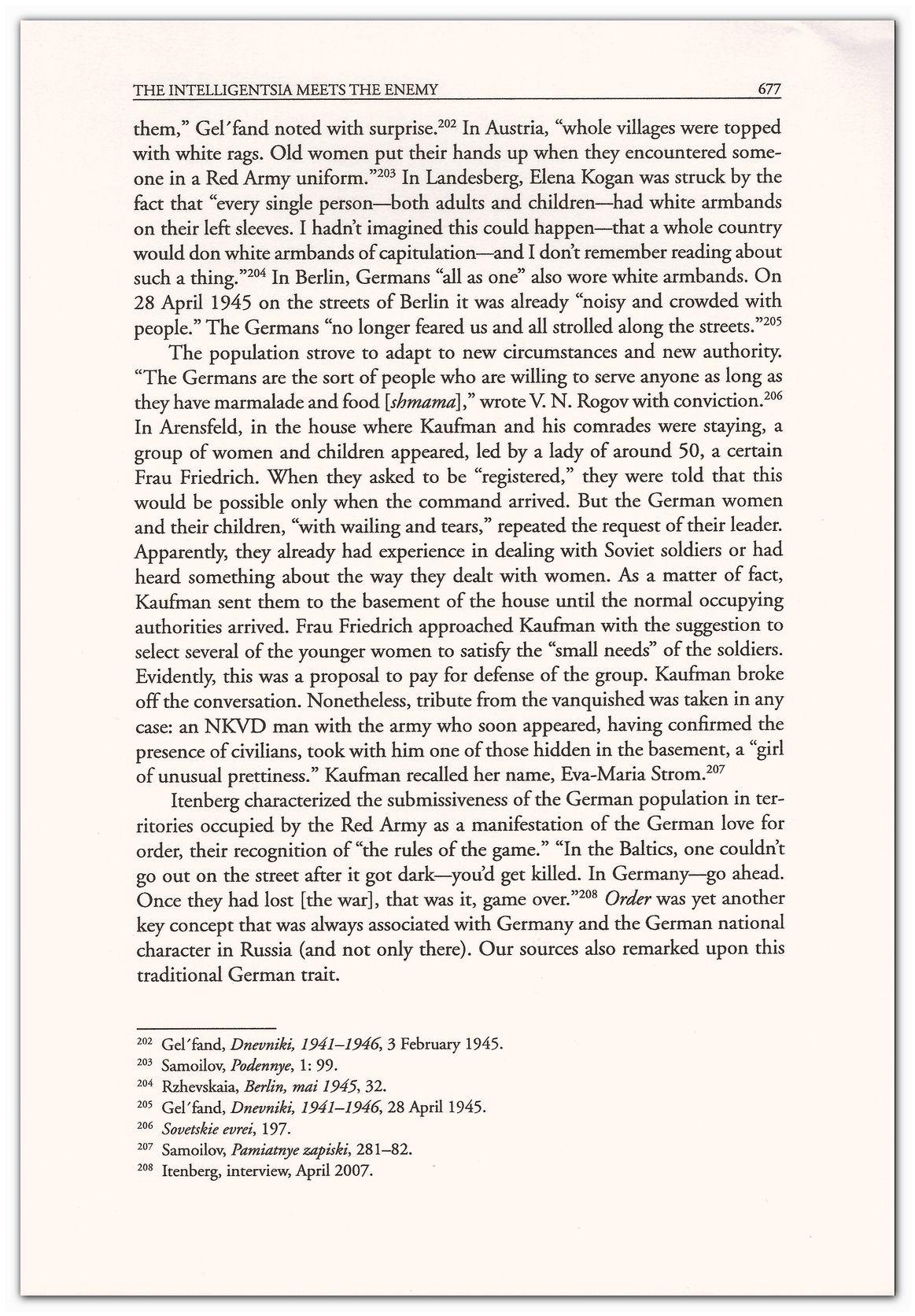 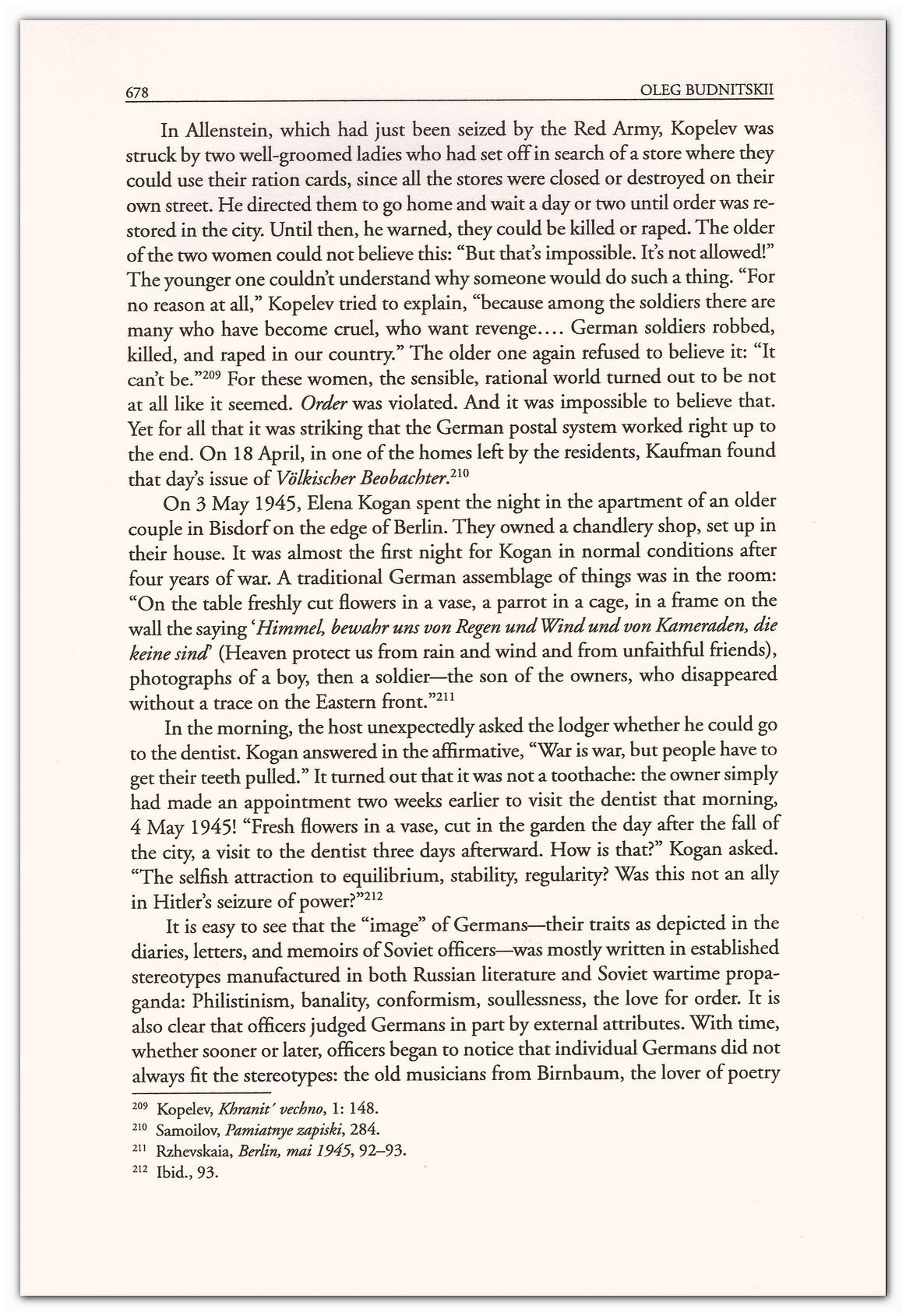 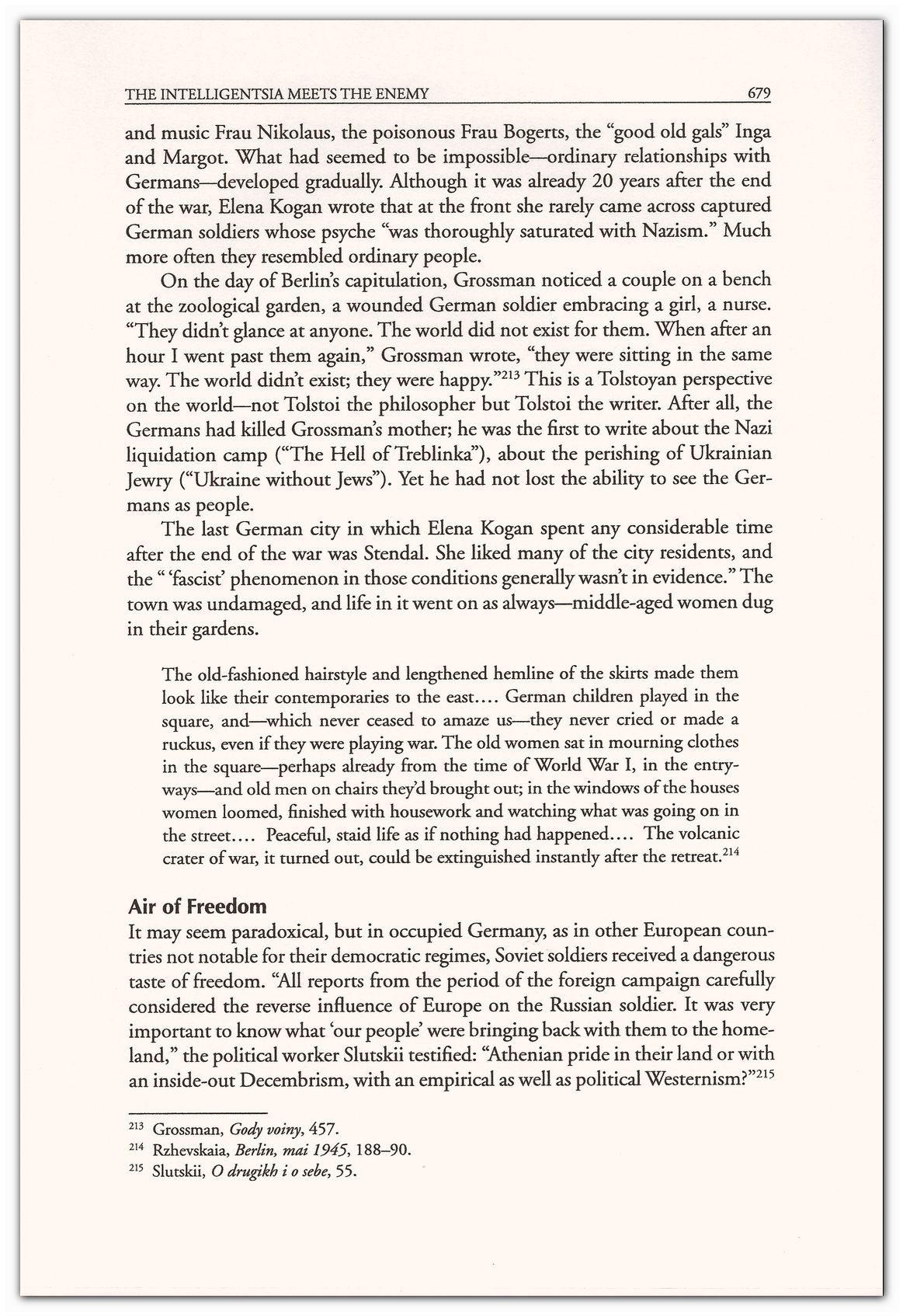 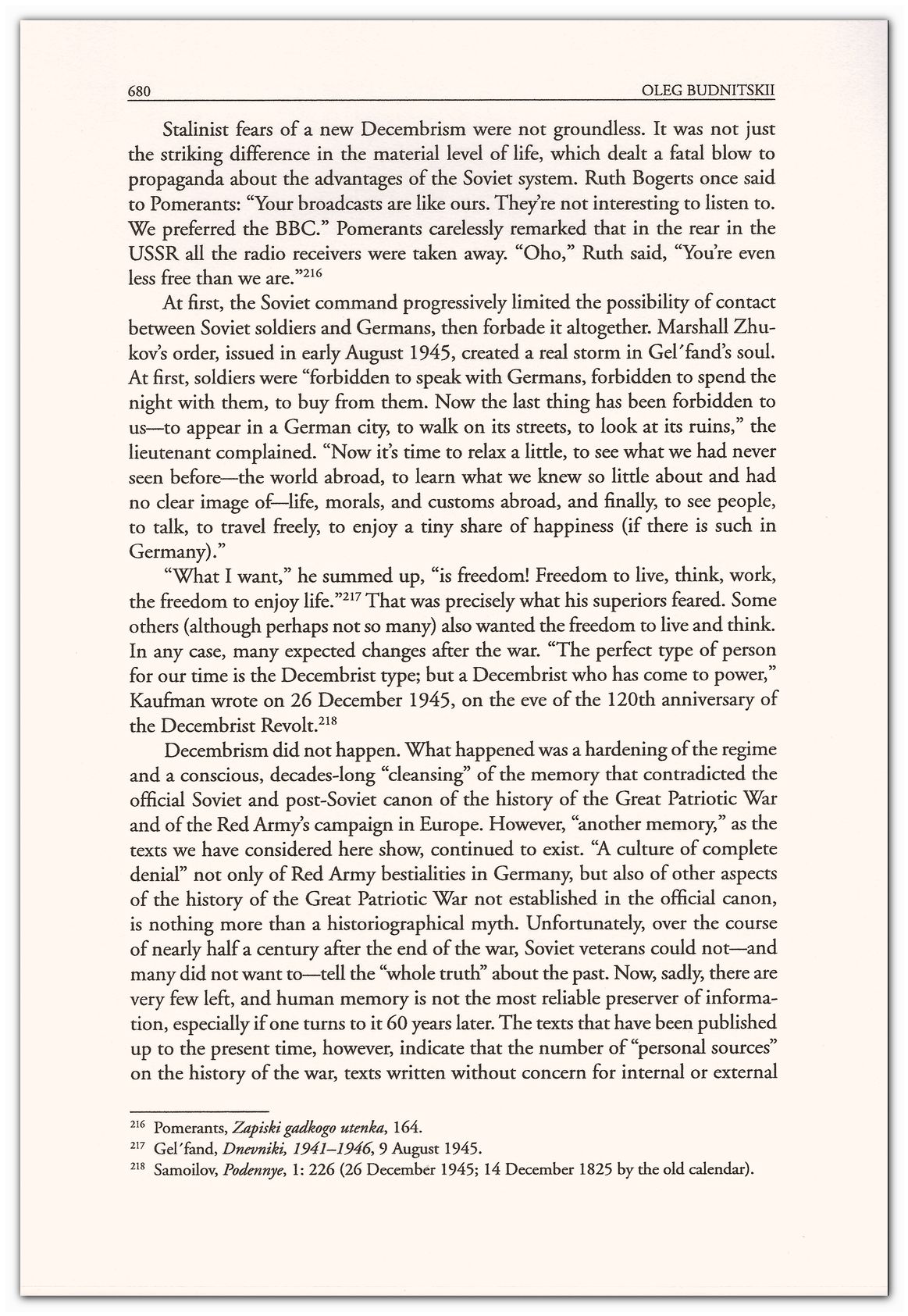 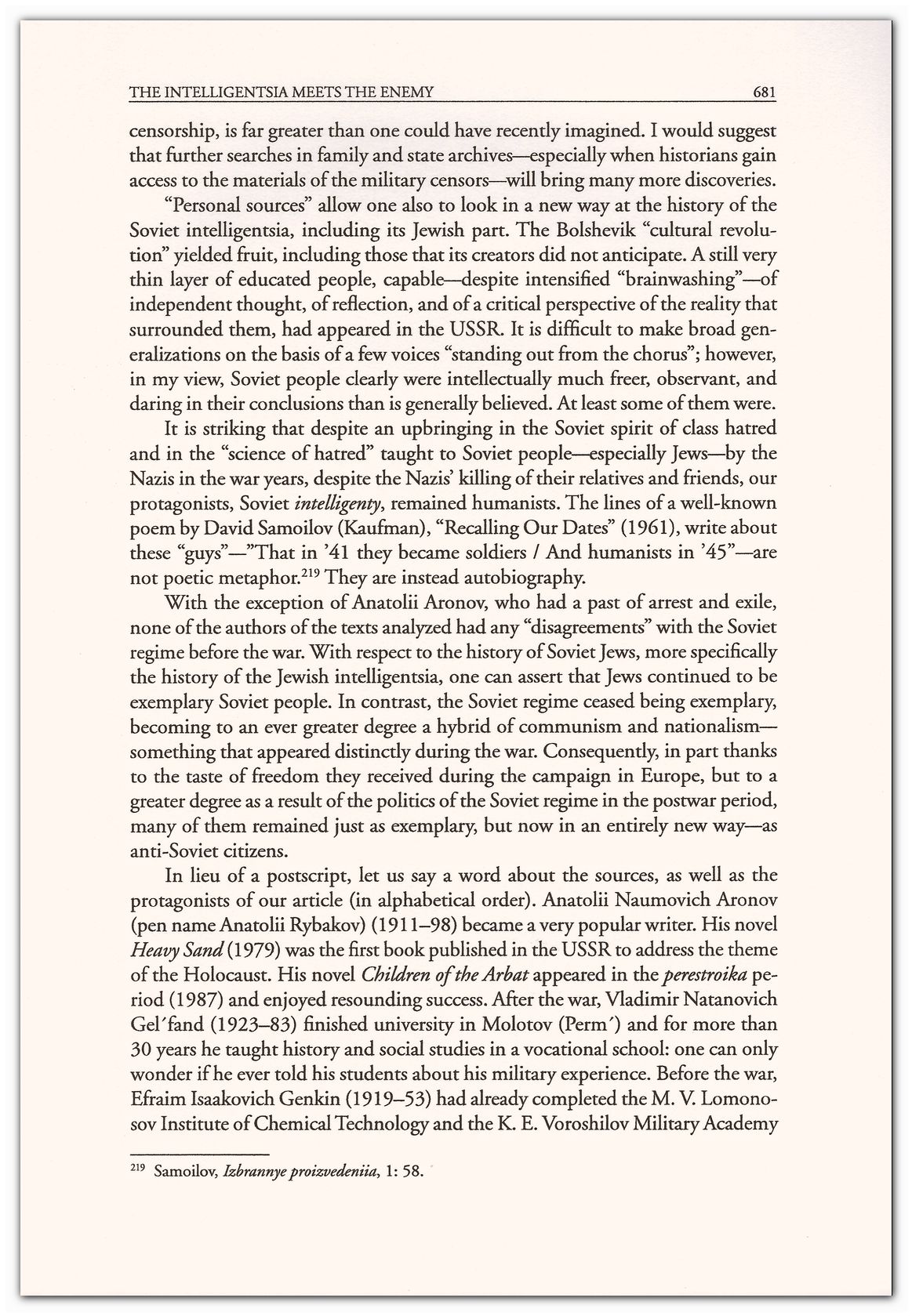 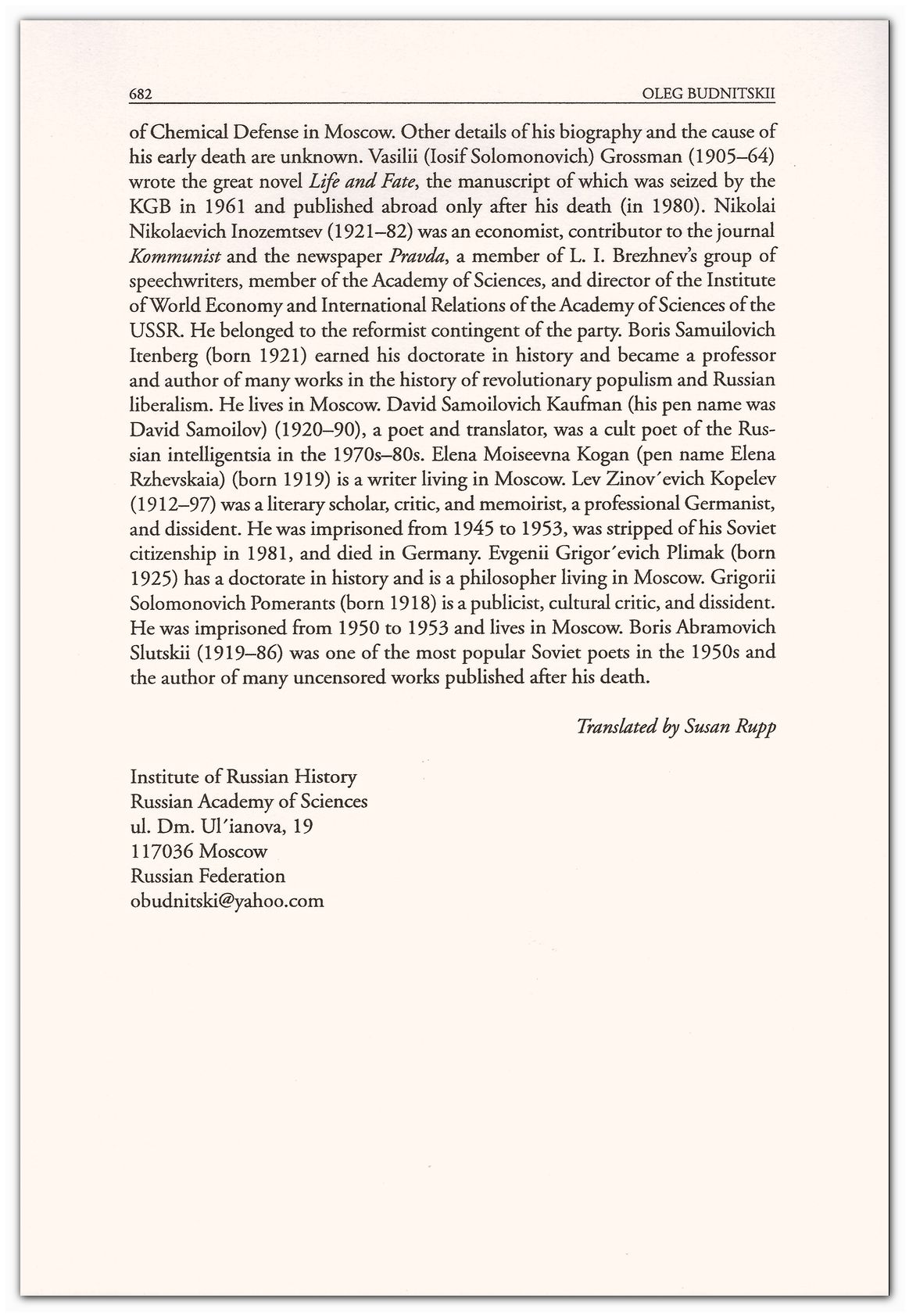 |
© Oleg Budnitskii
ОЛЕГ БУДНИЦКИЙ
Критика:
Исследования в российской и евразийской истории 10, 3 (лето 2009):
629–682.
Статьи
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ВСТРЕЧАЕТ ВРАГА
“Там
она, проклятая Германия!”
Лев Копелев въехал в Восточную Пруссию на грузовике Ford. Граница не была обозначена, поэтому ему пришлось определять ее самостоятельно:
*"Это было заранее согласовано: как только мы пересечем границу, мы отметим ее соответствующим образом. Остановившись точно на линии по карте, я скомандовал: ‘Вот Германия! Выйти и уменьшить вас!’ Это казалось нам остроумным — постоянное право рядом с декоративной чашкой, чтобы отметить первый вход на вражескую территорию именно таким способом."*¹
Германия встретила Владимира Гельфанда, командира минометного взвода, неласково — *"с метелью, свирепым ветром и пустыми, почти вымершими деревнями."*²
Военный корреспондент Василий Гроссман пересек немецкую границу к вечеру. Стояла туманная, дождливая погода, "в воздухе витал запах прелого леса." Вдоль шоссе тянулись "темные сосны, поля, фермы, хозяйственные постройки, дома с остроконечными крышами."
"В этом пейзаже было особое очарование," — писал Гроссман. "Маленькие, но очень густые леса выглядели красиво, с синевато-серым асфальтом и кирпичными дорогами, пересекающими их." Его наблюдения могли бы показаться туристическими, если бы не упоминание огромного знака на перекрестке: *"Солдат, здесь логово фашистского зверя."*³
Я благодарен участникам семинара «Очарование и вражда: русско-немецкие столкновения в XX веке и идея незападного исторического пути» (Берлин, 1–2 июня 2007 года) за их ценные комментарии к первой версии этой статьи.
Я также признателен Сьюзен Рапп за перевод этого «не самого легкого» текста, Теренсу Эммонсу, который прочитал и исправил перевод, и Дитриху Бейрау, который любезно проверил немецкие термины в статье.
Моя особая благодарность Полу Верту за его помощь в редактировании англоязычной версии статьи. И, как всегда, работа с Майклом Дэвид-Фоксом, Питером Холквистом и Кэролайн Панкхёрст при подготовке этой статьи к публикации была не только полезной, но и приятной.
Лейтенант Борис Итенберг, командир минометного взвода, пересек границу Восточной Пруссии в районе Гумбиннена на бронепоезде. Впервые он увидел Германию — «эту проклятую страну» — 25 марта 1945 года.⁴
Три недели спустя сержант Давид Кофмэн пересек немецкую границу: *«От Бирнбаума до Ландсберга идет узкое шоссе, обсаженное деревьями, стоящими ровными рядами. Приближаясь к Шверину, я увидел широкий плакат через дорогу с надписью: “Здесь была граница Германии.” Это была Германия. Я непроизвольно почувствовал волнение, пересекав эту невидимую границу. Черепичные крыши поселений, окрашенные в красный цвет, радовали глаз среди светлых зимних полей, сияющих на фоне зелени весеннего утра. Спокойствие утра смягчало пустоту деревень и уродство руин. Это придавало некую простоту ровному, ухоженному пейзажу, маленьким сосновым рощам, холмистой местности, аккуратно обработанным полям.»*⁵
Лейтенант Елена Когэн въехала в Германию по тому же шоссе: «За Бирнбаумом находился контрольно-пропускной пункт (КПП). Над широкой аркой красовалась надпись: “Здесь была граница Германии.”»
Все, кто в те дни путешествовал по Берлинскому шоссе, читали еще одну надпись, выведенную дегтем каким-то солдатом на полуразрушенном доме, стоявшем ближе всего к арке. Огромными, неровными буквами на стене было написано: *«Вот она, проклятая Германия!»*⁶
Майор Борис Слуцкий закончил войну не в Германии, а в Австрии. Однако для его солдат не было никакой разницы между немцами и австрийцами: *«Армия могла “почувствовать” немца. Мы не знали немецкий язык настолько хорошо, чтобы отличить пруссака от штирийского диалекта. Мы знали слишком мало о всемирной истории, чтобы оценить автономию Австрии в рамках Великой Германии. Солдаты внимательно слушали рассуждения о разнице между Германией и Австрией, но не верили ни единому слову.»*⁷
Эта статья основана на письмах, дневниках и мемуарах советских военнослужащих, завершивших войну на территории Третьего рейха. Самый молодой из них, Евгений Плимак, старший сержант и переводчик военной разведки, в 1945 году только отметил свое 20-летие; самому старшему, известному писателю Василию Гроссману, исполнилось 40. Большинство авторов было в возрасте от 22 до 34 лет, с чинами от младшего лейтенанта до старшего офицера.⁸
Они не были «типичными» представителями советского офицерского корпуса. Во-первых, большинство из них были москвичами; во-вторых, все они либо окончили, либо вынужденно прервали обучение в вузах; в-третьих, многие из них могли хоть немного говорить по-немецки — кто-то с трудом, а кто-то свободно. Для некоторых работа с противником стала военной профессией: они были либо переводчиками, либо пропагандистами. Они могли видеть в немцах не только врага, но и людей. Другое дело — делали ли они это на практике.
Все они принадлежали к новому поколению советской интеллигенции. Если они не родились при советской власти, то точно выросли в ней. Они были одновременно типичными и нетипичными продуктами социалистического воспитания. Почти все они были евреями.
Владимир Гельфанд и Евгений Плимак несколько отличались от остальных. Гельфанд был «провинциалом», которому удалось закончить лишь среднюю школу. Он баловался поэзией, но самое важное — вел дневник, редкий по своей искренности и наивности. Плимак тоже не имел полного образования — он окончил только девять классов, но прошел четырехлетний заочный курс иностранного языка в Москве. Он также читал Генриха Гейне в оригинале.
Без углубленного анализа можно отметить, что большинство дневников, писем и мемуаров были написаны непосредственно по горячим следам событий. Они отражают не только сами события, но и отношение к ним авторов лучше, чем позднейшие тексты.
Стоит отметить, что письма — менее откровенный источник, чем дневники, поскольку они писались с оглядкой на военную цензуру. Вопрос с мемуарами сложнее. Например, записки Слуцкого о войне были опубликованы в 2000 году, но написаны еще в 1945-м. Он передавал их друзьям на прочтение еще тогда. Несмотря на литературную «шлифовку» текста (хотя они изначально не предназначались для публикации), такая переработка в любом случае уменьшает вероятность ошибок памяти.
«Все, что я рассказал, — чистая правда,» — наивно утверждал Плимак в 2005 году, добавляя, однако: «правда, как она мне видится спустя более чем полвека.»
Нет нужды объяснять, что в 1995 и 2005 годах, когда автор редактировал свои мемуары, он воспринимал «истинную правду» уже через призму прошедших лет, иначе, чем в 1945 году. (И это не считая естественных ошибок памяти.)
В отличие от философа и историка Плимака, писатель Анатолий Рыбаков (Аронов) был, пожалуй, ближе к истине, когда определил жанр своих воспоминаний как *«новые мемуары.»*¹⁰
Я полагаю, что, несмотря на все оговорки, а также неизбежные искажения памяти и изменения восприятия, которые испытали мемуаристы в послевоенные годы, эти мемуары остаются довольно надежным источником. Военные записи некоторых авторов, таких как Кауфман, явно основывались на дневниковых записях. Однако, когда речь идет о темах, запрещенных в советский период — в частности, о жестокости, сопровождавшей продвижение Красной армии в Германии, — у авторов не было никакой традиции биографического письма, на которую можно было бы опереться. Они не могли, даже невольно, повторять установленные клише, как это часто происходило в описаниях подвигов или трагедий. Скорее, они писали о том, что действительно помнили, хотя, конечно, трудно полагаться на точность диалогов или отдельных деталей событий спустя несколько десятилетий. В некоторых случаях, как будет видно далее, достоверность более поздних мемуаров или воспоминаний подтверждается дневниковыми записями других свидетелей тех же событий.
В текстах и свидетельствах, которые легли в основу этой статьи, я искал «образ Германии» и восприятие немцев, которое сложилось у этих людей в 1945 году. Я предполагаю, что война на территории Германии и ее оккупация стали своеобразным зеркалом, в котором отразился сам образ победителей — советских людей, ставших продуктом четверти века развития советского общества. Это восприятие, искаженное чрезвычайными обстоятельствами, нашло отражение в рассказах очевидцев и участников событий. Авторы этих текстов, советские офицеры-интеллигенты, сами оказались «отражены» в «немецком зеркале».
«Портрет эпохи», который они невольно зафиксировали, стал их автопортретом. Что они привезли с собой в Германию? Чего они хотели? Как и все бойцы Красной армии, прежде всего они жаждали мести.
18 июня 1944 года Кауфман бродил по центру Гомеля — города, «который когда-то был красивым». «Теперь от него остались только несколько сосен и обломки вывесок: "Отель", "Проход"», — записал он в своем дневнике. В конце своей записи он привел цитату: *«Помните эти руины и мстите за них!»*¹¹
«Люди здесь боятся гнева русских. Они бегут, бросая все свое имущество. Германия горит, и по какой-то причине приятно наблюдать за этим зрелищем. Смерть за смерть, кровь за кровь. Я не жалею этих человеконенавистников», — написал Гельфанд в день, когда вошел в Германию.¹²
Рационалист и марксист Копелев выступал против раздела Германии, разрушения ее промышленности и любых «немарксистских, непролетарских» актов мести. Он считал, что «достаточно» будет расстрелять полтора миллиона человек — членов СС, Гестапо и летчиков, бомбивших советские города. Примерно столько же активных членов нацистской партии, по его мнению, следовало приговорить к длительным срокам заключения. Простых партийцев, солдат оккупационных войск и лидеров Гитлерюгенда он предлагал направить в различные страны на три-четыре года, чтобы они восстанавливали разрушенное нацистами.
Одна из его коллег, шокированная такими идеями, обвинила Копелева в том, что он ненавидит немцев потому, что он еврей. «Я ненавижу не немцев, а фашистов», — ответил Копелев.¹³
Этот разговор состоялся в 1942 году и носил скорее теоретический характер. Но когда в 1945 году он пересек границу Германии, первое, что он сделал, — выразил свою ненависть и презрение, помочившись на немецкую землю.
Итенберг писал жене из Гумбиннена, что, с одной стороны, ему было жаль «разбитую мебель и посуду», но, с другой, «вспоминая, как они сжигали и разрушали наши дома, хочется отомстить даже этой мебели, потому что это немецкая мебель, потому что на ней сидели фашисты!» (25 марта 1945).
Многие отмечали влияние публицистики Ильи Эренбурга в разжигании ненависти к немцам. *«Как Адам или Колумб, Эренбург был первым, кто вошел в страну ненависти и дал имя ее жителям».*¹⁴
За день до вступления в Германию Кауфман организовал комсомольское собрание разведчиков на тему «О поведении советских воинов в логове зверя». Это была его личная инициатива, даже до появления «основополагающей» статьи Григория Александрова в «Правде».¹⁵ Однако его гуманистический призыв не вызвал энтузиазма. Один из бойцов посоветовал ему «почитать Эренбурга».
*«Наши ребята не были злыми или жестокими, но они так долго пробирались к Германии, что чувство мести и злобы наполняло их сердца. Конечно, они хотели крушить, сжигать, насмехаться над врагом и снять груз боли с души, как Разин или Пугачев. Это желание подогревалось лозунгами, стихами, особенно статьями Эренбурга.»*¹⁶
Еще одно «приветствие» Эренбургу пришло от старшего сержанта Николая Иноземцева, который после получения очередного приказа «прекратить поджоги, разрушение собственности и насилие» вспоминал его знаменитую фразу: *«оставьте это на совести солдата.»*¹⁷
Эренбург, однако, не был единственным. «Политработники тысячами учили солдат ненавидеть немца во всех его проявлениях» (акцент добавлен).¹⁸ Это было общее настроение, закрепленное сверху. В газете части, где служила Елена Когэн, 9 февраля 1945 года вышел заголовок: *«Бойся, Германия: Россия идет на Берлин.»*¹⁹
Почти все думали так, как майор Слуцкий:
*«Наш гнев и наша жестокость не требовали оправдания. Это было не время говорить о справедливости. Немцы первыми перешли черту между добром и злом. И за это им воздалось сторицей.»*²⁰
Но кого и как именно «воздавать»?
Некоторые офицеры, жаждавшие мести, сталкивались с немцами, которые «были не того сорта». Первые «обычные» немцы, с которыми встретился Кауфман в Бирнбауме, оказались пожилыми музыкантами и их жёнами. Одна из женщин была парализована и передвигалась на повозке. Они не смогли уехать из-за болезни. Кауфман поговорил с ними о музыке. Понимая немного немецкий, он и музыканты использовали мелодии Брамса и Чайковского как средство общения.
*«Затем им приказали уйти. Они пошли, старомодные старики в картузах и длинных пальто, таща за собой на санях остатки своего имущества и больную женщину. Горе Германии было заслуженным, но то, что я видел перед собой, тронуло меня. Я поклялся, что никогда не обижу женщин и детей своего врага.»*²¹
Однако было неясно, как именно следовало поступить. Письмо Рогова к Эренбургу отражало это непреодолимое противоречие — желание отомстить за погибших и невозможность нарушить собственные моральные принципы, уподобившись тем, кто травил женщин и детей в газовых камерах. Жажда мести сменялась непониманием и растерянностью, возможно, еще и потому, что уже было достаточно мстителей, не испытывавших сомнений и колебаний.
Литература уже обращалась к вакханалии грабежей, насилия и убийств мирных жителей, сопровождавших вторжение советских войск в Германию.²⁵ Однако исследователи в основном опирались на немецкие источники или официальные советские документы. Норман Нэймарк пишет: *«Сегодня, беседуя с ветеранами советской военной администрации в Германии или с участниками Восточно-Прусской кампании, невольно испытываешь чувство, что бывшие советские офицеры стремятся забыть о поведении своих соратников (и о собственном безразличии к нему в то время).»*²⁶
Спустя десять лет после выхода книги Нэймарка Кэтрин Мерридэйл отмечала: *«В условиях культуры, почти полностью построенной на отрицании, [Леонид] Рабихев и книга Копелева до сих пор остаются едва ли не единственными обсуждениями этой темы на русском языке.»*²⁷
На самом деле некоторые офицеры не только фиксировали в своих записях неожиданное поведение советских солдат, но и пытались его объяснить. К сожалению, большинство рассматриваемых в данной статье источников, за исключением книги Льва Копелева, были опубликованы уже после выхода книги Нэймарка и поэтому были ему недоступны. Их не упоминает и Кэтрин Мерридэйл. В российской историографии тема преступлений Красной армии в Германии остается табуированной. Например, российский историк нового поколения Елена Синявская называет «акты мести» «психологическими расстройствами» (что действительно справедливо для части советских войск). Однако она настаивает, что такие действия были исключением, а не правилом. В подтверждение этого она приводит воспоминания одного ветерана:
«Мы не проявляли милосердия к фашистам, которые пришли к нам с оружием в руках», — вспоминал бывший артиллерист, Герой Советского Союза Г. Дьядюкин. «Но мы не трогали тех, кто сложил оружие, кто сдался. Я никогда не видел случая, когда с разоруженными людьми обходились бы жестоко. Это было против нашего духа. И это само собой разумеется в отношении гражданского населения.»
Синявская заключает: *«Гуманизм и великодушие победителей были одним из важнейших проявлений морального превосходства советских войск, которые в этой Отечественной войне защищали глубоко справедливые цели против гитлеровских агрессоров, мародеров и убийц.»*²⁸
Нет сомнений в справедливости целей, за которые сражались советские солдаты. Однако проблема гуманизма и великодушия намного сложнее.
Не то чтобы тема преступлений Красной армии против гражданского населения замалчивалась — она просто не признается российским обществом, тем более политиками. Так, в ответ на публикацию в The Daily Telegraph о насилии советских солдат над немецкими женщинами, а также над советскими узницами концлагерей, освобожденными в 1945 году, российский посол в Лондоне назвал эти сведения *«очевидной ложью и инсинуациями»*²⁹. Однако времена меняются: книга Энтони Бивора «Падение Берлина, 1945» вышла в российском переводе в Москве в 2004 году³⁰.
Вернемся, однако, к свидетельствам непосредственных участников событий.
Слуцкий, заявивший, что «наша жестокость не требует оправдания» (см. выше), противоречил сам себе, когда писал: *«Наша жестокость была слишком велика, чтобы быть оправданной. Но она может и должна быть объяснена.»*³¹
Что же происходило в Восточной Пруссии? Была ли эта жестокость действительно необходимой и неизбежной? Мы призывали к «священной мести», но кто были мстители и за кого они мстили? Почему среди наших солдат оказалось так много тех, кто насиловал женщин и девочек прямо на снегу или у ворот, кто убивал безоружных, кто разрушал все, что не мог унести, кто осквернял дома, кто поджигал ради самого процесса разрушения? Как такое стало возможным? — задавался вопросом Копелев³².
«Гитлер сумел убедить немцев, что попадание в руки русских означает полное уничтожение. Надо признать, что наши солдаты не сделали ничего, чтобы развеять это убеждение,» — записал в своем дневнике Кауфман³³.
«Война приобрела личные черты», — писал Слуцкий о красноармейцах, вошедших в Австрию и не желавших верить, что австрийцы чем-то отличаются от немцев. *«Немец есть немец. Им надо "дать" по заслугам. И они начали "давать" немцам.»*³⁴
Самое яркое описание массового разрушения Восточной Пруссии оставил Лев Копелев. Проезжая через опустевшие деревни Гросс-Кослау и Кляйн-Кослау, он сначала решил, что их сожгли во время боя или что немцы подожгли их сами. Однако солдат объяснил ему «ленивым, преступным тоном»:
«Нам сказали: это Германия. Это значит — бей, охоться, мсти. Но где нам теперь ночевать и куда девать раненых?»
Но горящие деревни были только прологом к аду. Дальше лежали Найденбург и Алленштайн. Задача Копелева заключалась в изучении «политического и морального состояния вражеского населения». Но сначала он столкнулся лишь с трупами.
Первое, что он увидел, — тело пожилой женщины в изорванном платье. Между ее ног убийцы засунули телефонную трубку — видимо, в насмешку. Солдат, который выбежал из дома с награбленными вещами, объяснил: *«Она была шпионкой, мы застали ее с телефоном в руках.»*³⁵
В Ораниенбауме, под Берлином, Кауфман спас немца от расстрела. Пьяные солдаты приняли его радио за передатчик и решили, что он связной врага. Немец, напуганный до смерти, был отпущен³⁶.
Первым живым немцем, которого встретили Копелев и его товарищи, оказалась пожилая женщина, искавшая свою дочь. Однако командир Копелева уже загрузил машину награбленным добром — роялем, гобеленами, картинами — и не хотел тратить место на старуху. Он объявил, что она «шпионка», которая пытается их запутать, и потребовал ее расстрелять.
Копелев схватил командира за руку, но пока они боролись, солдат застрелил женщину³⁷.
В одном из разграбленных домов они нашли следы панического бегства и умирающую женщину с ножевыми ранениями в грудь и живот. Рядом с ней лежал кинжал с выгравированной рукоятью³⁸.
Картина в Алленштайне была столь же ужасающей³⁹.
Офицеры разведки, схватив первого пленного, держали его при себе в течение трех недель. Отношения с ним были вполне дружескими; немец оказался забавным и вовсе не страшным. Затем встал вопрос о его отправке в штаб армии. Никто не хотел идти восемь километров по снегу, чтобы доставить пленного, поэтому его сначала накормили, а затем убили.⁴⁶
Этот эпизод, возможно, лег в основу стихотворения Слуцкого:
Что мне до них! Разве я крестил немецких детей?
Я ни горяч, ни холоден к их судьбе!
Я не жалею ни одного из них!
Мне жаль только вальс, который играет на гармонике…
Пленных убивали регулярно, возможно, даже чаще к концу войны, чем в начале, поскольку их количество значительно увеличилось.⁴⁷ Солдат убивали во хмелю, от страха, из мести — а иногда и вовсе без причины. Командир разведывательного корпуса держал пленного эсэсовца в качестве личного водителя. Ему нравилось ездить к своей любовнице в трофейном «Фольксвагене», за рулем которого сидел этот самый пленный. Когда вышестоящее командование выяснило, что в разведке числится пропавший без вести немец, его тут же застрелили, чтобы избежать ненужных объяснений.⁴⁸ В госпитале в Грауденце один из раненых немецких офицеров был застрелен лишь за то, что у него обнаружили татуировку с эмблемой СС.⁴⁹
По словам Владимира Цоглина, «сердца людей окаменели». 14 февраля 1945 года он писал сестре из Восточной Пруссии:
*«И если ты скажешь солдату: "Послушай, не убивай Ганса, пусть он восстанавливает то, что разрушил", он посмотрит на тебя исподлобья и ответит: "Ты русский? Они увезли мою жену и дочь". И он застрелит его. И будет прав.»*⁵⁰
Сам Цоглин сожалел, что они берут слишком много пленных, поскольку уже убили так много (он использовал выражение "их уже, так сказать, чертова прорва").⁵¹
При этом месть явно не была «симметричной» и не всегда зависела от личного опыта конкретного советского солдата. Страдания и потери, понесенные тем или иным бойцом Красной армии, не являлись определяющим фактором. Важнее было его личное отношение к жизни — к своей собственной и к жизням окружающих, его прошлый опыт (не только боевой), его культура.
Так, младший брат Льва Копелева исчез без вести в начале войны, его близкие родственники были убиты в Киеве в Бабьем Яру. Тем не менее именно Копелев, по мнению его командиров, «проявлял буржуазный гуманизм».
Жена солдата Василия Черкина и его сестра умерли во время блокады Ленинграда, оба сына и два брата погибли на фронте. Он потерял всю семью. Казалось бы, он мог думать только о мести. Однако в январе 1945 года, находясь в городе Хинденбург (ныне Забже, Польша), он и его товарищи провели ночь в богатом немецком доме. Хозяин, по каким-то причинам не успевший или не пожелавший бежать, встретил их поверхностно вежливо.
Черкин вспоминал:
*"Это был мужчина лет 30–40, бюргер, вероятно чиновник. Его жена — еще молодая, высокая, сочувственная. Две дочери учились в классической гимназии. Квартира была просторной, уютной: дорогие ковры, шикарные шторы, добротная мебель. Полированные паркетные полы сверкали, как зеркало. Мы расположились на ночлег на втором этаже. Я помню, как с наших ботинок капала талая вода, оставляя лужицы на паркете. Эти пятна, растекавшиеся по зеркальному полу, до сих пор вызывают у меня какое-то неловкое чувство, словно стыд..."*⁵²
Этот человек потерял всю семью от рук немцев, добровольно ушел на фронт еще в 1941 году, и всё же стыдился грязи, оставленной на паркете в немецком доме!
Спустя сорок лет, обсуждая убийства пленных в последние месяцы войны, Кауфман (Самойлов) писал:
*"Война навязала нам обязанность убивать. Нам внушали, что мы имеем право убивать. Убей немца! Худшее было в том, что мы приняли это право как долг. Их аргумент был прост: немцы, СС, гестаповцы ведь поступали ещё хуже? Для советского человека ничто не могло сравниться с гестапо. Мы победили, потому что мы были лучше, потому что у нас была мораль. И большая часть армии этим правом не воспользовалась."*⁵³
Возможно, так оно и было. Но откуда тогда взялось то «меньшинство», которое, судя по масштабам грабежей и убийств, вовсе не было маленьким? Кто были эти люди? Отличались ли они от идеального советского гражданина, от "истинного русского", каким его описывали в литературе? И если отличались, то изменились ли они только из-за войны?
Кауфман, вспоминая своё московское детство и юность 1920–1930-х годов, писал о демографических, социальных и психологических изменениях, которые претерпело население столицы:
*"Пугачёвщина пришла в город в начале 1920-х и отпраздновала победу грабежами. Следы этих грабежей остались на целом поколении. Нравственный беспорядок Москвы, участие её жителей в конфискациях, разрушение церквей и культурных памятников, небывалая жестокость коллективизации и репрессий 1937 года — всё это было возможно лишь потому, что в обществе была размыта мораль."*⁵⁴
Описывая жизнь своего коммунального дома, Кауфман отмечал, что новые городские жители потеряли традиционные деревенские ценности, но так и не приобрели новых.
"Жизнь в этих дворах строилась на пьянстве, беспробудном хамстве, воровстве, болезнях и частых смертях," — писал он.
Именно из этих семей, по его мнению, в 1930–1940-х годах вышли будущие "солдаты преступного мира", которые во время войны "наконец получили право на месть — и с лихвой отплатили за своё голодное, лишённое будущего детство".⁵⁵
Григорий Померанц спустя годы пытался осмыслить, что же произошло в 1945-м:
"Я не знаю, что стало решающим стимулом для той вакханалии насилия, которая завершила войну. То ли нервный срыв после всех трагедий и страданий? То ли анархический дух толпы? То ли военная пропаганда?"
На пути к Берлину кружил снег...
*"Это был не Эренбург, а Твардовский. Ветер срывал плакаты, на которых славяне жгли и рушили пустые немецкие города. Война освободила всё, даже самые низменные желания. Убей немца. Отомсти. Ты — воин мести."*⁵⁶
Однако встает вопрос: где в тот момент были командиры и генералы? Почему они не останавливали происходящее? Померанц отвечает просто:
"Да потому что они сами думали так же."
Это "объяснение неравенства", почти по Бердяеву: *"как в старину дворяне не могли усмирить анархию казаков, так и в 1945-м офицеры не могли усмирить свою армию."*⁵⁷
Так кто же в конечном счёте был ответственен за моральное разложение армии (по крайней мере её активной части) в 1945 году? Ответ Кауфмана прост и полностью соответствует взглядам «детей XX съезда»: Сталин. Хотя военное опустошение Германии было выгодно Сталину, её «моральное разложение» не было.
*"Это разложение символизировало бы победу идеи свободы и надежд, которые война зародила в советском обществе. Внедряя организованные формы мародёрства и насилия, Сталин создал нечто вроде национальной коллективной ответственности за аморализм [nechto vrode natsional´noi krugovoi poruki amoralizma] и окончательно свёл идею интернационализма к пустой фразе, лишая нацию морального права на реализацию свободы."*⁶⁶
Копелев, также ретроспективно, писал, что команда «священная месть» должна была выделить советских людей среди всех других народов.⁶⁷
Сталин знал о насилии в отношении гражданского населения в Германии. Руководство НКВД докладывало ему об этом в мельчайших деталях. Так, в секретном донесении Берии от 17 марта 1945 года говорилось:
"Многие немцы заявляют, что в Восточной Пруссии все немецкие женщины, оставшиеся в тылу, были изнасилованы солдатами Красной армии."
Как будто просто «фиксируя» немецкие заявления, Берия тем не менее приводит конкретные примеры, подтверждающие, что они не были голословными. Немцы сообщали о групповом насилии со стороны советских солдат над женщинами всех возрастов — от несовершеннолетних девочек до старух.
Наиболее шокирующим оказался случай, зарегистрированный оперативно-военной группой НКВД в местечке Шпальтайтен. При фильтрации гражданского населения было отмечено, что у трёх женщин и двенадцати детей обнаружены порезы на правых запястьях — следы коллективной попытки самоубийства.
Одна из пострадавших рассказывала:
*"3 февраля, когда передовые части Красной армии вошли в город, меня выволокли во двор, где я была поочередно изнасилована двенадцатью солдатами. В то же время другие солдаты насиловали моих соседок. В ту же ночь шесть пьяных солдат вломились в подвал и насиловали женщин на глазах у их детей. 5 февраля насильников было трое, на следующий день восемь. Они не только насиловали, но и избивали нас. Видя ужасы, о которых нас предупреждала немецкая пропаганда, и столкнувшись с этими зверствами наяву, мы решили покончить с собой. 8 февраля мы порезали себе запястья и перерезали вены нашим детям."*⁶⁸
Один из местных жителей свидетельствовал, что две немецкие женщины, подвергшиеся многократному насилию, повесились на чердаке его дома. В пограничном городе Грантов 18 и 19 февраля было зарегистрировано около десяти самоубийств среди гражданского населения.
*"Самоубийства среди немцев, особенно среди женщин, становятся всё более распространёнными."*⁶⁹
Однако указ Сталина об изменении отношения к немецким военнопленным и гражданскому населению последовал лишь месяц спустя, 20 апреля 1945 года. В нём говорилось о необходимости "лучшего отношения к немцам", объясняя это следующим образом:
*"Более гуманное отношение к немцам облегчит ведение военных операций на их территории и, несомненно, уменьшит их упорство в обороне."*⁷⁰
Сталин был Сталиным, но и «человеческого материала» для формирования «коллективной ответственности за аморализм» оказалось предостаточно. Война, особенно такая, не делает людей лучше. Однако нельзя забывать и о четверти века насилия, о жестокости власти — и о той части общества, которая её поддерживала.
Поздний Кауфман утверждал, что *"если бы не русский национальный характер — отсутствие злопамятности, любви к детям, теплоте, отсутствию чувства превосходства, следам религиозности и интернационалистскому сознанию в самых широких массах советских солдат, народ Германии, возможно, пострадал бы гораздо больше."*⁷¹
Но это утверждение больше напоминает дань народнической традиции русской интеллигенции, чем реальное отражение событий. Оно противоречит даже собственному описанию Кауфманом нравов новой городской среды 1920–1930-х годов.
Копелев — один из первых в советской литературе, кто описал мародёрство, насилие и убийства мирных жителей, совершённые бойцами и командирами Красной армии. Он пытался противостоять этому и был приговорён к десяти годам лагерей за «буржуазный гуманизм». Тем не менее он не мог отгородить себя от остальной армии.
*"Сражение продолжается за город [Алленштейн]. А мы собираем трофеи — Беляев, я, сержант-карманник и прочие мародёры. Мы все вместе. Генерал на вокзале, командующий сбором чемоданов, сапёр-лейтенант, верящий в интернационализм, танкист, выгнанный из части, и все прочие. Те, кто штурмует Кёнигсберг, те, кто пьёт и пытается найти храбрость в спиртном, те, кто берёт себе "баб" — мы все вместе. Честные и подлецы, храбрые и трусливые, добрые и жестокие. Мы все вместе. И нет пути назад, нет выхода. Слава здесь не отделима от позора."*⁷²
Тем не менее Копелев, Кауфман и Слуцкий, в той или иной степени, пытались сопротивляться волне бессмысленного насилия.
Почти все авторы писем, дневников и мемуаров, послуживших источниками для этой статьи, были евреями.⁷³ Это были советские евреи, у которых был шанс стать частью «нового интернационалистского большинства», и они этим шансом воспользовались, зачастую даже не задумываясь над тем, что с ними произошло — и что произошло с их народом.
Гроссман, принадлежавший к другому поколению, был исключением. Он родился и провёл детство в «еврейской столице» Бердичеве, где жила и погибла его мать.⁷⁴
Кауфман вспоминал, что в детстве его отец рассказывал ему истории из Библии, пытаясь привить "дух национализма". Однако эти попытки оказались безуспешными:
*"Во мне не развился националист, хотя я не был чужд национальной гордости и чувства собственного достоинства."*⁷⁵
Позже он писал:
*"По сути, у меня не было своего народа. Еврейский дух был мне чужд, непонятен и далёк. Осознанно я был интернационалистом — и по духу тоже. Но что-то сближало меня с этим народом. Я знал, что если с евреями случится беда, я не покину их и приму любые страдания вместе с ними. Но всё равно я оставался далёк от них. Волжская песня трогала меня больше, чем скорбные и печальные песни моего народа. Их язык был не моим языком, их дух не моим духом. Но их сердце было моим сердцем."*⁷⁶
Все они, конечно, знали об уничтожении евреев нацистами. Многие потеряли близких.
Однако Копелев, рассказывая о своих погибших родственниках, подчёркивал:
*"Я ненавижу фашистов не как еврей, а как советский человек. Как человек из Киева и Москвы, но прежде всего — как коммунист."*⁸⁷
Они действительно были подлинными советскими людьми. Проблема была в том, что само понятие «подлинного советского человека» изменилось. И не все сумели это осознать.
Гельфанд, спустя полгода после окончания войны, записал беседу с немецкой женщиной, которую буквально подобрал на улице.
Она говорила о евреях с презрением, излагала теорию расового превосходства, лепетала о различии красной, белой и "аристократической" крови. Это раздражало меня, вызывало внутренний протест. Невежество этой и других немецких женщин пробуждало во мне негодование, и я не замедлил возразить. Я пытался объяснить ей, что у всех людей кровь одинаково красная и горячая, независимо от их происхождения, и что миф о "благородной арийской крови" — полное изобретение, мракобесие незадачливых фашистских теоретиков вроде Розенберга. Но она не могла этого понять.¹
Разногласия по вопросу о расе, однако, не помешали Гельфанду предпринять очередную (на этот раз неудачную) попытку соблазнить женщину.
Советские офицеры были удивлены, обнаружив живущих немецких евреев в Берлине и его окрестностях. В Беркенвердере Кауфман встретил четверых немецких евреев:
"Их судьба была ужасна. Однако их живучесть поражает. Они говорят, что около 2 000 евреев до сих пор скрываются в предместьях Берлина."
На следующий день он встретил ещё одну еврейскую семью, точнее — смешанную семью. Его удивило, что еврейская жена продолжала носить жёлтую звезду с надписью "Jude". Когда он спросил её, зачем она это делает, она ответила, что теперь это "полезная вещь". Кауфман заключил: *"Знак позора превратился в своего рода паспорт."*⁹³
В конце апреля 1945 года штаб корпуса, в котором служил Анатолий Аронов, располагался на Вильгельмштрассе в Берлине. В самый первый день он заметил во дворе "тощую женщину в тёмных очках, чёрном пальто и чёрном шарфе", которая пристально смотрела на него.
На следующий день женщина решилась: подошла к Аронову и молча протянула ему обрывок бумаги со звездой Давида. Она узнала в советском офицере еврея и решилась "показаться".
Как оказалось, старая на вид женщина была всего лишь 16-летней девушкой. В 1940 году её семья была депортирована в Польшу. Фрау Кребер, у которой девочка училась игре на фортепиано, спрятала её в кладовке своей квартиры на пять лет. Девочка пыталась покончить с собой, но это означало бы, что она выдаст свою благодетельницу. Теперь её единственная надежда была связана с родственниками в Америке. Майор Аронов больше никогда её не видел.⁹⁴
В Берлине Елена Коган встретила дантиста доктора Брука. Он жил под вымышленным именем, а его бывшая студентка и ассистентка Кэте Гютцерман вместе с сестрой помогали ему скрываться. Ситуация становилась ещё более пикантной из-за того, что Гютцерман теперь работала ассистенткой другого дантиста — профессора Блэшке, личного стоматолога Гитлера.⁹⁵
Гельфанд проводил время в послевоенном Берлине с семьёй Ришковски — немецкими евреями — и "тайно обменивался поцелуями" с их старшей дочерью Эльзой.⁹⁶
Однако встречи немецких евреев с их советскими братьями не всегда приносили радость или даже понимание.
Михаил Вик рассказывал, как старший лейтенант-переводчик их группы стыдился своей еврейской принадлежности и пытался скрыть её. Когда Вик и его семья открылись ему как евреи, он ответил:
*"Все знают, что Гитлер уничтожил всех евреев. А раз уж вы каким-то образом выжили, значит, вы сотрудничали с нацистами."*⁹⁷
Лишь немногие из наших главных героев обсуждали уничтожение евреев. Национал-социализм воспринимался как абсолютное зло, но тогда ещё мало кто задумывался о его истоках, природе и целях.
Только Кауфман, в контексте своей "теории" о нацизме как идеале мелкой буржуазии (Bürgertum), пытался логически вывести мотивы истребления евреев:
*"Булочник ненавидит еврейского владельца магазина — Гитлер уничтожает всех евреев. Булочник считает себя и свою жену самыми порядочными булочниками в мире — Гитлер кричит, что только нация булочников имеет право существовать."*⁹⁸
В попытке насолить этой "нации булочников", Кауфман, "для забавы", рассказывал немцам, которых встречал в Берлине, что он еврей:
*"Они были в ужасном восторге, словно я был не евреем, а богатым дядей, который вот-вот оставит им наследство."*⁹⁹
Но больше, чем отношение немцев к евреям ("с этим всё было ясно"), наших героев беспокоило отношение их собственных соотечественников, их боевых товарищей. Они видели, как советский интернационализм буквально испаряется у них на глазах — если он вообще когда-либо существовал за пределами узкого круга городской интеллигенции.
За исключением Гроссмана, больше всех еврейский вопрос волновал Бориса Слуцкого.
Он записал "историю еврея Гершельмана", который во время оккупации пытался скрываться, но был предан своими же соседями, знакомыми, коллегами и даже родным шурином. Гершельман выжил только потому, что нашлись люди, которые ему помогли. Однако его вывод был горьким:
"Тех, кто меня спасал, было в десять раз больше, чем тех, кто меня предавал."
Но сам Слуцкий, рассказывая эту историю, замечает, что на самом деле спасителей было далеко не в десять раз больше. Гершельману просто нужно было сделать "правильное" заключение.
Слуцкий открыто признавал:
"В Австрии я столкнулся с другим отношением русских к евреям."
Он записал историю венской еврейки, которую два года скрывали штирийские крестьяне "из жалости к её трёхлетнему сыну".
*"Я часто слушала радио и знала Красную армию. Я ждала вас. В жизни я спала только с одним мужчиной. А теперь я должна ложиться в постель с каждым солдатом, который проходит через деревню. После его первого же требования."*¹⁰¹
Слуцкий остро ощущал, как изменилось отношение русских к евреям. Он пытался объяснить это рационально:
"Русский крестьянин установил бесспорный факт: он воевал больше всех, лучше всех, искреннее всех. Кроме того, государство решило сыграть на патриотической карте (которая легко превращается в националистическую карту). Война принесла с собой массовый, агрессивный шовинизм."
*"Народы познакомились друг с другом. Они не обязательно стали лучше относиться друг к другу после этого знакомства."*¹⁰²
Советские евреи стали занимать особое место в этом новом иерархическом порядке национальностей. Враги вдруг превратились в "товарищей по борьбе", но сами евреи, похоже, остались в стороне.
Слуцкий отмечал:
*"У тысяч евреев на фронте было ощущение, что их военный вклад недостаточен. Позор и гнев обращались на тех, кто об этом напоминал. А некоторые стремились искупить вину за своих трусливых соотечественников."*¹⁰⁵
Но правда заключалась в другом: евреи на фронте сражались так же, как и другие. Они не были трусливыми. Это был только миф, который удобнее было принять, чем опровергать.
26 декабря 1944 года Сталин одобрил указ, разрешающий солдатам, сержантам, офицерам и генералам Красной армии отправлять посылки с фронта в тыл. Отправка пакетов была разрешена раз в месяц в следующих объемах: рядовые и сержанты могли отправлять до 5 кг, офицеры — до 10 кг, а генералы — до 16 кг.¹¹³
Значение этого указа было очевидным: возможность отправлять домой "трофеи" должна была служить стимулом для продолжения кампании в Европе. Помимо прочего, это было также средством противодействия немецкой пропаганде, которая задавала вопрос: "Зачем сражаться на чужой земле?" Указ привлекал внимание солдат Красной армии к "преимуществам" жизни в Европе — как реальным, так и воображаемым.¹¹⁴
Рядовой Василий Черкин увидел в этом документе, появившемся как раз при входе советских войск на немецкую территорию, фактическое "разрешение на мародерство". Однако, с другой стороны, он считал этот указ "негативной мерой", поскольку "немецким солдатам позволяли ежемесячно отправлять на родину 16-килограммовые посылки с награбленным добром с оккупированных территорий".¹¹⁵
Кауфман резко осудил этот указ:
*"Популяризация войны через 'кампанию пакетов' вызывает у меня отвращение. Разве было необходимо, отомстив негодяям, повторять их поступки?"*¹¹⁶
Слуцкий отмечал, что "революционный скачок" в разграблении начался именно после разрешения на отправку пакетов.¹¹⁷
Опираясь на собственные наблюдения в ночь после взятия Гумбиннена, откуда уже сбежало немецкое население, Ефраим Генкин 22 января 1945 года писал:
*"Наши люди, словно орда гуннов, бросились в дома. Все горит; подушки разорваны, перья летят в воздухе. Все — от солдата до полковника — тащат награбленное. За несколько часов богато обставленные квартиры и роскошные дома превращаются в свалку, где изуродованные картины смешаны с осколками стекла и порванными занавесками. Это зрелище вызывает во мне ужас и отвращение. Глядя, как люди хватают чужое добро, я чувствую мерзость и отвращение. В то же время очевидно, что такой разгул мародерства отчасти объясняется 'разрешением' отправлять домой посылки. Это гадко, отвратительно и бесчеловечно!!! Это точно так же, как делали немцы в Украине."*¹¹⁸
Совсем иначе интерпретировал этот указ лейтенант Итенберг, который видел в нем лишь возможность:
"Теперь вышел приказ: можно отправлять пакеты с фронта — значит, как только появится шанс, я отправлю. Кончились времена, когда из Германии отправляли домой вещи, награбленные у нас. Теперь наоборот. Женщины с простыми русскими именами — Нина, Маруся, Тоня и многие другие — получат посылки от любимых мужей, женихов, друзей. Они будут радоваться победам Красной армии и проклинать наших врагов."
Он мечтал поскорее добраться до Восточной Пруссии, "пока там еще остались трофеи".¹¹⁹
Первым немецким городом, в который вошел Итенберг, был Гумбиннен. Однако спустя несколько дней после его взятия он обнаружил, что все ценное уже разграблено:
*"От былой роскоши остались лишь скелеты мебели. Обивка с диванов и кресел срезана с удивительной тщательностью."*¹²⁰
Лейтенант Гельфанд не испытывал ни малейших сомнений относительно указа о посылках:
"Никто не мешает нам брать то, что немцы когда-то украли у нас. Я абсолютно удовлетворен."
Единственное, что его расстраивало — это варварское отношение товарищей к классической немецкой культуре. Его командир роты разорвал портрет Шиллера и "уничтожил бы Гёте, если бы я не вырвал его из рук этого сумасшедшего и не спрятал, завернув в тряпку". Гельфанд размышлял:
*"Гении не должны гибнуть от рук варваров. Разрушить их память — великий грех и позор для цивилизованного человека."*¹²¹
Однако уже спустя три дня его собственные мысли были заняты другим:
"Каждую ночь я опустошаю мешки с лишними трофеями — все унести невозможно."
Гельфанд оказался весьма удачливым мародером: через его руки прошли десятки наручных часов, большая часть которых не работала, но для солдат они оставались ценностью.¹²²
Командование одобрило разграбление. Как только его часть закрепилась на западном берегу Одера, был отдан приказ "осмотреть здания". В трофеи Гельфанда вошли авторучка, колода карт, обычные наручные часы и серебряная цепочка. Правда, часы тут же забрал командир соседней роты.¹²³
Кауфман описывает масштабную "экспроприацию экспроприаторов":
*"Недалеко от Берлина, в Штраусберге, уже в самом конце войны командир разведывательной роты приказал солдатам сложить трофеи в штаб и вернуться к своим подразделениям. В ожидании, пока рядовые вернутся с очередного грабежа, офицеры рылись в груде шуб, белья, радиоаппаратуры и аккордеонов, отбирая себе лучшее. Самый старший по званию, полковник Савицкий, приказал отправить ему трофейный аккордеон. Когда ему попытались всучить инструмент поменьше, он пересчитал количество клавиш на своем 'предпочтительном' инструменте и убедился, что на нем их больше."*¹²⁴
Часы и алкоголь стали главной валютой победителей.
В загородной вилле под Берлином, где квартировал Григорий Померанц, не осталось ни одних карманных или наручных часов — только огромные напольные. "Мы издадим закон, чтобы запрещалось делать карманные часы," — горько шутила хозяйка дома, фрау Рут. Один из её друзей жаловался, что мародерством занимались не только солдаты-мужчины, но и Militärfrauen (женщины-военные).
"Мужчины отбирали еду, вино, часы. А Militärfrauen сразу вычисляли, где спрятаны драгоценности, чувствовали, что в чайнике есть двойное дно, и вытряхивали всё до последнего."
Фрау Рут поддразнивала Померанца, рассказывая, что в словарном запасе советского солдата всего четыре немецких слова: "Ring, Uhr, Rad, Wein" ("кольцо, часы, велосипед, вино")¹²⁵ — четыре надежных единицы обмена.
Даже самые обеспеченные горожане из СССР впервые смогли испытать вещи, которые для европейцев были привычны.
Гельфанд научился ездить на велосипеде только 22 апреля 1945 года в одном из пригородов Берлина, как точно отметил в дневнике.¹²⁶ Велосипеды были в огромной цене среди победителей. Их хватало не всем, и за них шла настоящая борьба.
Итенберг, уже демобилизованный в 1945 году, отправился домой на трофейном велосипеде, но не довёз его до СССР: на одном из паромов учтивые немецкие матросы просто конфисковали его. Итенберг с грустью писал:
*"Думаю, наши же ребята и украли его обратно."*¹²⁷
Кауфманн Слутский, за исключением того, какой случай он описывает, имели место не в Styria, деревня, далекая от глаз команды, но десять километров от Берлина: “молодая девочка, Хельга. Семнадцать лет. Она была изнасилована пять раз солдатами. Женщины просили, чтоб они не трогают ее больше — она не могла разговаривать. Какой ужас! Сама она спрашивала меня об этом. Я трачу весь день со стариками, broads, и их детьми, защищая их от всех видов вторжений. ”142Гроссман написал об “ужасных
вещах”, которые случились с немецкими женщинами. В Шверине
некоторые из жертв попытались жаловаться военным властям: муж женщины,
которая была изнасилована десятью солдатами; мать молодой девочки,
изнасилованной солдатом от команды сигнала, приложенной к армейскому
штату. Лицо, шея, и руки девочки были ушиблены; один глаз был раздут.
Насильник был "там красным, говорил дерзости", с полным лицом, сонный.
Он казался не очень напуганным наказанием, очевидно на серьезном
основании. Гроссман заметил, что командир расспросил его без большого
энтузиазма. В другом случае кормящая мать была изнасилована в сарае. Ее
родственники попросили, чтобы насильники отдохнули, поскольку ребенок
должен был нянчить и кричал целое время 145 В парадоксальном эпизоде,
немецкие женщины кричали и умоляли для еврейского чиновника, с которым
они чувствовали себя сейф, чтобы остаться при исполнении служебных
обязанностей. Парадокс находится в факте, что вся семья еврейского
чиновника была убита нацистами, и он жил в доме агента Гестапо, который
сумел сбежать, но оставил его семью позади 146
Евгений Плимэк оставил примечание с родителями изнасилованной и
раненной девочки 15 лет, или пуля 16 лет-a прошла близко к ней
обращенный к сердцу “любому командующему или борцу советской
армии,” с запросом получить девочку к медицинской станции. Это
была единственная вещь, которую он мог сделать, чтобы помочь, поскольку
штат корпуса продвигался. Неделю спустя, он говорил с 40-летней
женщиной, которая подверглась насилию бригады. Плимэк советовал ей
скрываться в течение двух - трех дней, пока командир не обнаружился,
который никоим образом не гарантировал безопасность, поскольку опыт тех
дней показал 147
В пригороде Берлина в прошлые дни войны Померантс услышал очень, что
это было беспристрастно от владельца виллы, в которой редакционная
коллегия газеты подразделения была quartered и в котором он служил.
“Те, кто не верил в пропаганду Гитлера, были теми, кто оставался
в Берлине — и смотреть, что они получили.” Сама она
"получила" ночь с командиром подразделения штата, подаренного пистолет
как заказ. “Вообще пистолет действовал как заказ ареста в Москве.
Напуганные женщины подчинялись. Тогда один из них повесился. Она -
вероятно не единственная, но это - то, о котором я знаю. В то время,
победитель, получив его, играл во внутреннем дворе с ее мальчиком. Он
просто не понимал то, что это означало для нее. ”148
Гроссман заметил “много кричащих молодых женщин” на улицах
Берлина. “Очевидно, они пострадали в руках наших солдат,”
он закончился (последняя фраза была опущена в советской публикации его
портативных компьютеров). Никакие специальные усилия не были обязаны
приходить к тому заключению. “Господин, я люблю Вашу
армию,” молодой француз сказал Гроссману, “и именно поэтому
это является очень болезненным, чтобы видеть их поведение к девочкам и
женщинам. Это будет очень вредно для Вашей пропаганды. ”149
Кто был насильниками, этими “ублюдками и бандитами”?
Слутский полагал, что была отличная “группа профессиональных
кадров насильников и мародеров” в армии. “Они были людьми с
относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, те от
тыла.” Дисциплина, прогрессивно уменьшенная в соответствии с
движением по всей Европе, “но только здесь, в Третьем Рейхе,
сделала они фактически падают на белокурый broads, их кожаные чемоданы,
их старые бочонки с вином и сидром. ”150
В армии те от тыла были нелюбимы, если не ненавидел. Померанс напоминал
огни в городах Восточной Пруссии, захваченной за советские войска:
“Славяне стреляли в автоматику в кристалле, они не могли
проталкиваться свои сумки комплекта и поджечь остальных [я puskali
krasnogo petukha]. Это не было направлено против немцев. В городе не
было никаких немцев. Это были войска от тыла, которые загружали сумки
трофеями. Ненависть к солдатам была превращена против тех, кто
разбогател в войне. Если не я, то никто! Разрушьте все! ”151
В любой армии тыловое обеспечение является необходимой частью, и не обязательно туда попадают только плохие люди. Однако, даже исходя лишь из данных, рассмотренных в этой статье, можно утверждать, что среди насильников преобладали военнослужащие передовых частей. Солдаты, терроризировавшие женщин в деревне Зихауа (Sichauer) и на которых Слутский пытался воздействовать “не законом, а голосом человечности”, были самыми обычными бойцами Красной армии, ничем не отличавшимися от остальных.¹⁵²
Литературные объяснения поведения солдат Красной армии в отношении немецких женщин, сосредотачивающиеся на мести и противопоставлении "высшей расы", лишь отчасти верны. Партийный организатор одной из частей, в которой служил Померанц, ещё в 1942 году сказал: “Где моя жена теперь? Наверное, спит с немцем.” Затем добавил: “Подождите, вот дойдём до Берлина – мы покажем этим немкам!”¹⁵³
Иногда такие объяснения выглядят анекдотично. Так, согласно Энтони Бивору, “Сталин добился того, что советское общество выглядело практически асексуальным. Однако это было не проявлением пуританства, а элементом идеологии, стремившейся ‘деиндивидуализировать’ человека. Советское государство пыталось подавить любые личные желания, подменяя их любовью к Партии и, прежде всего, к Великому Вождю.” Бивор утверждает, что дегуманизация посредством пропаганды, включая “попытки подавления либидо у советских людей”, привела к тому, что “наименее образованные солдаты Красной армии страдали от сексуального невежества и крайне примитивных представлений о женщинах.”¹⁵⁴
Однако предположение о подавлении либидо выглядит сомнительным. Ни одна пропаганда никогда не могла уничтожить базовые человеческие инстинкты. Напротив, среди сотен тысяч солдат, долгие годы лишённых контакта с женщинами, сексуальное желание только усиливалось. Когда они наконец получили доступ к желанным и полностью беззащитным женщинам, они не упустили свой шанс. В этом контексте алкоголь выступал не столько причиной, сколько катализатором насилия.¹⁵⁵
Хотя в России не существовало “сексуального просвещения”, российские мужчины ухаживали за женщинами, создавали семьи и не полагались на любовь к Партии вместо любви к женщине. Сталин, будучи жестоким диктатором, прекрасно понимал, что дети не рождаются из преданности Партии. Солдаты Красной армии не проявляли “неуместного” отношения к немецким женщинам из-за недостатка знаний о том, как обращаться с женщинами. Они просто не считали это необходимым. Для них немецкие женщины были существами второго сорта, военными трофеями.
“Идея, овладевшая массами, становится материальной силой”, — с иронией писал Померанц. “Маркс был совершенно прав. К концу войны массы были охвачены убеждением, что немецкие женщины от 16 до 60 лет являются законной добычей победителя. Даже приказ Сталина не смог бы остановить армию.”¹⁵⁶
Попытки остановить это начались только в конце апреля. Когда Слутский доложил о событиях в Зихауа командованию, его действительно выслушали. Как он писал: “Прошло время, когда мои сообщения о насилии воспринимались как клевета на Красную армию. Теперь это стало политической проблемой — в Австрии.” Из Москвы начали поступать “жёсткие” и “категорические” телеграммы. “Но даже без них постепенно созревали интернационалистские идеи и элементарная гуманность, от которой никуда не денешься”, — писал неисправимый коммунист и гуманист Слутский.¹⁵⁷
Тем не менее, инерция попустительства оказалась трудно преодолимой, несмотря на введение строгих мер. Если в Вене порядок был более или менее наведен, то в сельских районах его было сложнее удержать. В районе Кремса, в течение недели с 26 июня по 3 июля 1945 года, были изнасилованы несколько десятков женщин, а “до 17” гражданских лиц получили ранения. Подстрекателей и особо жестоких преступников расстреливали, но эти “воспитательные меры” мало кого останавливали. Мародёрство, изнасилования и грабежи продолжались. Женщины, работавшие в полях, становились частыми жертвами насилия.¹⁵⁸
Число женщин, забеременевших в результате изнасилований, было настолько велико, что временное правительство Штирии было вынуждено разрешить аборты “по этическим причинам” в доказанных случаях насилия, временно отменив действовавший в Австрии запрет на искусственное прерывание беременности.¹⁵⁹
Согласно воспоминаниям Померанца, даже личные приказы Сталина и телеграммы из Москвы не возымели мгновенного эффекта. Войска успокоились только через две недели после окончания войны. “Это напоминало оккупацию: когда выжившие немцы не были убиты, но получали сигареты. Грабежи прекратились. Пистолет перестал быть языком любви. Достаточно было нескольких слов, чтобы договориться мирно. И неисправимые потомки Чингисхана начали заводить романы. За немецкую женщину давали пять лет, за чешку — десять.”¹⁶⁰
Так закончилась эпоха насилия. Началась эпоха любви.
Наконец, его "падение" произошло — с немецкой женщиной, и в обстоятельствах, далеких от романтики.
Гельфанд обосновался в квартире полкового командира, когда его часть передислоцировалась. Он увлекся сбором книг, которые затем отправлял в СССР. Одновременно он изучал медицинскую литературу, в частности книги, посвященные "сексуальному бессилию и другим вопросам".
"Меня никогда прежде не пугала мысль о возможной потере мужской силы, но теперь это стало настоящей угрозой. Я решил, во что бы то ни стало, использовать последние дни в этом городе, чтобы помочь себе. Я поклялся себе, что преодолею застенчивость и сомнения."
Решение проблемы оказалось неожиданно простым. Он заметил из окна "симпатичную девушку, блондинку с легким оттенком рыжины в волосах", проходящую по улице. Гельфанд вышел и, не затягивая разговор, предложил ей войти в дом. Он не угрожал ей, не пытался соблазнить едой, но после непринужденной беседы девушка согласилась.
Однако первая интимная близость Гельфанда была далека от мечтаний. Ему пришлось бороться с отвращением, хотя не из-за того, что его партнерша была немкой. Девушка пахла "как собака" — мыло в послевоенном Берлине было не меньшим дефицитом, чем хлеб или шоколад.
Но это не остановило лейтенанта, и он предложил женщине раздеться:
"Я с нетерпением ждал этого момента. В своем воображении я представлял форму этого сокровища, которое должно было открыться мне впервые. Перед мысленным взором вставали картины великих художников, журнальные фотографии, даже немногочисленные порнографические снимки, которые я когда-то видел. Все это смешивалось в моей голове в единый идеальный образ женского тела. Но каким же было мое потрясение, разочарование и даже стыд, когда я увидел нечто совершенно иное — не мифическую красоту, а реальность: красноватое, влажное, уродливое, вызывающее отвращение."
Его первая партнерша уже не была юной девочкой. У нее было "небольшое тело, исцарапанное укусами насекомых, полностью сформировавшаяся, но обвисшая грудь". Что заставило эту женщину пойти в постель с Гельфандом — остается неясным. В любом случае, когда в дверь постучали, а повар сообщил, что пора есть, немецкая женщина отказалась от еды, несмотря на явный голод. "Я не могу быть всем угодной, — сказала она. — Лучше я останусь голодной."
С российскими девушками у Гельфанда дела обстояли не так просто. После очередного отказа он записал в дневнике: "Немецкие женщины никогда не были для меня ни в идеологическом, ни в моральном смысле. Среди них встречались красивые, даже очень красивые, но они не трогали меня по-настоящему, не вызывали любви или страсти. Они не отказывались от нежности — или, вернее, вообще ни от чего."
Однажды он вместе с другом познакомился с двумя фройляйн, но позже отступился: "Их накрашенные губы, манерность и особенно их искреннее увлечение мной — все это внезапно начало раздражать."
Со временем лейтенант настолько изменился, что даже перестал испытывать отвращение к проституткам с Александерплац. Однако даже здесь он отмечал их искусственность: "Ее брови были слишком ярко очерчены, помада запеклась на губах, а от тела исходил запах пыли и дешевого одеколона. Она не была лишена красоты, но вульгарный макияж убил в ней всю свежесть и привлекательность."
Но он все еще искал чего-то "великого и чистого". Такой "чистой любовью" для него стала Марго из Вельтена, несмотря на то, что это противоречило этике советского офицера. Когда он был с ней, "не было ни грубых прикосновений, ни бесцеремонности, как с русской Ниночкой, а лишь застенчивая, почти искренняя нежность."
В отличие от Марго, Нина была старше, опытнее и не столь наивной. Она не скрывала своей сексуальной раскрепощенности и однажды призналась: "Я уже привыкла к этому." Однако Гельфанд отмечал: "Она русская. Но что самое важное — она все еще свободна, что большая редкость среди наших девушек. Почти все они — 'жены' или 'походно-полевые жены' (ППЖ), куда ни глянь."
Гельфанд долго ухаживал за Марго, мирясь с ее сварливой матерью, которая терпела лейтенанта лишь за его еду и мыло. В конце 1945 года он подвел итог своим любовным приключениям:
"В школе я был застенчив и не пользовался успехом у девочек. Во время войны я начал узнавать, что такое любовь и наслаждение, но так и не испытал ни того, ни другого. Хотя у меня было много женщин, я не могу вспомнить большинство из них. Я впервые оказался близок с женщиной только после войны, в Берлине, и то лишь потому, что она сама этого хотела. После этого у меня было еще пять женщин: три в Берлине, две в Вельтене. Одна из них была проституткой с Александерплац, другая — больна гонореей (чудо, что я не заразился!), третья была отвратительна, о четвертой я не хочу даже вспоминать. Лишь одна осталась в моей памяти и запала в душу. Вот такова, оказывается, 'любовь'."
Сержант Плимэк тоже впервые сблизился с женщиной в Германии. До этого он испытывал лишь платоническую любовь к Летти (Шарлотте Шульц) из Кирххайна, чью фотографию он даже опубликовал в своих мемуарах. Но невинность он потерял с Анни, в городе Гера.
Анни, работавшая проституткой, убеждала, что не делала этого раньше. Она приехала в Геру из Берлина после бомбежки вместе с восьмилетней дочерью. Муж исчез без вести на Западном фронте, работы не было, и ей пришлось зарабатывать телом.
Изначально сержант не решался на сближение — они просто разговаривали, а на прощание он дал ей несколько пачек марок, "конфискованных" у заключенных. Через неделю Анни "вернула долг", сама проявив инициативу. Их роман продолжался три недели, пока женщина не вернулась в Берлин.
Позже Плимэк сравнивал свою ситуацию с героями "Идиота" Достоевского, метающимися между Настасьей Филипповной и Аглаей. Однако его страсти не достигли уровня романа: вскоре он расстался с обеими немецкими женщинами и женился на русской переводчице Маше. В отличие от князя Мышкина, он не оказался в психиатрической клинике, а стал профессором философии в МГУ — что в конце 1940-х было лишь немного лучше.
Военные власти пытались прекратить связи советских солдат с местными женщинами. Однако большинство военных имели другое мнение: "Мы никогда не видели таких молодых, доступных, ухоженных немок, хорошо пахнущих и одетых в 'иностранном стиле'", — вспоминал майор Анатолий Аронов. Женщины отвечали взаимностью не только из-за симпатии, но и потому, что хотели есть. "Немки ели кусочек хлеба с маслом с ножом и вилкой, как полноценное второе блюдо. Это нравилось нашим 'всадникам'."
Кауфманн тоже влюбился, но роман с Евой Марией в Лейпциге остался лишь в его стихах. Настоящей валютой в любви были шоколад и сигареты. Или, как писал Давид Самойлов: "Два кита победы — масло и сало.
"Роскошь обстановки неописуема; богатство и элегантность всего имущества поражали воображение," — записал Гельфанд, описывая свое первое впечатление от повседневной материальной культуры немцев.
В Гумбиннене Итенберг видел "разрушенные дома; выброшенную мебель; шоссе, обсаженные ровными рядами деревьев; библиотеки, полные новых, непрочитанных книг; и множество других мелочей, свидетельствующих о жизни, невероятно комфортной, которой наслаждались эти паразиты. Все осталось в домах. Интерьеры были особенно впечатляющими: гарнитуры, диваны, платяные шкафы... Как они жили! Чего им еще не хватало?! Они хотели войны — они ее получили."
Такие мысли испытывали многие советские солдаты, пораженные "невероятно хорошей жизнью" немцев: зачем они напали на Россию? Чего им было мало?
В Ораниенбауме внимание Кауфманна привлекли кухни, сверкающие "адской чистотой", заполненные предметами, назначение которых он и его товарищи даже не могли определить.
Элена Коган писала о "самой удобной" кухне в маленьком доме в Ландсберге, стоявшем "на пути войны":
"На полках ровными рядами стояли пивные кружки. На буфете пыльно поблескивала глиняная тетушка в позолоченной обуви, безмятежно улыбаясь. Эта безделушка была подарена владелице на свадьбу 32 года назад. Две разрушительные войны пронеслись над миром, но тетушка из фарфора осталась невредимой, с надписью на переднике: 'Кофе и пиво — вот что я люблю'."
Кауфманн, который также оказался в Ландсберге, "был поражен детальностью организации повседневной жизни, очевидной в тысячах оставленных мелочей и безделушек. В то же время, как мало здесь было книг!"
"На моем столе стояли старые часы, которые отбивали мелодию, похожую на краковяк. Безвкусные картины на стенах, портреты людей в парадных мундирах и без них. Под одним из них надпись: 'Погиб за Родину. 27 марта 1918'. А рядом традиционная пивная кружка с выгравированным на ней стихом:"
"Величайший враг рода людского —
Алкоголь, несомненно, он!
Но в Библии сказано ясно:
Даже врагов любить велено нам."
Элена Коган описывала тот же ряд пивных кружек и ту же самую глиняную тетушку, которая стояла на буфете и предлагала выпить из своей миниатюрной кружки.
Глиняные пивные кружки с поучительными или юмористическими надписями стали для русских символом Германии — "символом банальности и мещанства." Операторы военной хроники неизменно снимали их.
"Человек становится рабом вещей," — философствовал Кауфманн.
"Здесь вещь — не просто предмет быта. Нет! У вещей есть своя философия, свои взгляды. Они проповедуют на каждом шагу. На полотенце, на кружке, на тарелке, на стене, даже на ночном горшке!"
"Любовь — это когда двое
Уже живут на земле,
А чувствуют себя в раю!"
"Эти сентиментальные и самодовольные вещи — как и их владельцы. Они сами стали вещами в собственных домах. И теперь они рушатся вместе с этими домами. Германия — уродливая вещь в мире."
Гроссман записал разговор с 35-летней немкой, женой торговца лошадьми. Она была расстроена, что советские солдаты забрали ее имущество.
"Она рыдала, а затем с холодной рассудительностью начала рассказывать мне о том, как ее мать и три сестры погибли в Ганновере во время американской бомбежки. После этого с таким же увлечением пересказала мне слухи о любовных связях Геринга, Гиммлера и Геббельса."
Мемуаристы подчеркивали привязанность немцев к вещам.
Недалеко от Берлина Кауфманн встретил освобожденных остарбайтеров — русских, украинцев, французов, голландцев — и немецких беженцев.
"Французы, хоть и голодные, сохраняли бодрость. Немцы, напротив, выглядели ужасно. Они никогда не знали угнетения, но не могли забыть о вещах, которые тащили с собой, как муравьи."
Помощница личного дантиста Гитлера, Кете Хаузерманн, якобы отказалась эвакуироваться из Берлина, потому что закопала свою одежду недалеко от города. Элена Коган, услышав эту историю, поверила: это идеально вписывалось в ее представления о немцах.
Даже Гельфанд, который поначалу восхищался "неописуемой роскошью" немецкого быта, вскоре начал относиться к этому с презрением.
"Теперь в Германии время дождя и слез. Немцы жалуются на еду, на товары, на то, что раньше все было в изобилии. Они хнычут — но не о свободе, а о вещах!"
При этом сам Гельфанд не упускал случая воспользоваться немецкими "товарами". Он был частым посетителем черного рынка на Александерплац.
"За 250 марок я купил электрическую бритву, за 100 и 200 марок — две пары женских тапочек. Отправлю их маме. Женская одежда продавалась по разумным ценам. Но с пальто меня обманули: оказалось, в нем столько дыр, что из него нельзя было сшить даже брюки."
Кауфманн размышлял:
"Возможно, революция в России была легче, потому что здесь никто не был собственником вещей. В Германии же вещи владели людьми."
По его мнению, именно мещанство стало средой, породившей нацизм:
"Гитлеризм — это философия обывателя, доведенного до зверства. Это безумие самоуверенности, самолюбования, зависти. Это пафос банальности и пустоты, взвинченных до чудовищного уровня."
Он сделал вывод, который отражал его революционные взгляды:
"И все булочки с начинкой мира придут к такому же концу, если мы не раздавим их и не сотрём с лица земли."
Почти все источники, цитируемые в этой статье, подчеркивают низкий уровень духовной культуры немцев.
"В их домах было множество вещей — но мало книг."
Итенберг расспросил 36-летнего военнопленного, садовника:
"Вы слышали о Фейхтвангере?"
"Нет."
"Но вы ведь окончили восемь классов школы!"
"Да."
Итенберг с возмущением записал в дневнике: "Эта тупоголовая сволочь даже не знает Фейхтвангера!"
Гельфанд отмечал: "Берлинцы читают везде. Но что они читают? Ни одного автора мирового уровня. Даже Гете почти нет. Сплошная халтура."
Советские офицеры видели спектакль в Креммене.
"Немецкая публика любит дешевый смех и вульгарность. Они визжали от восторга, когда актер на сцене имитировал вытирание интимных мест."
Таковы были впечатления советских солдат о Германии — стране богатого быта, но бедной культуры.
В Алленштейне, только что захваченном Красной армией, Копелев был поражен видом двух ухоженных женщин, которые отправились искать магазин, где могли бы использовать свои продовольственные карточки. Однако все магазины на их улице были закрыты или разрушены.
Копелев посоветовал им вернуться домой и подождать день-другой, пока в городе не восстановится порядок. До тех пор, предупредил он, их могли убить или изнасиловать.
"Но это невозможно! Это не позволено!" — воскликнула старшая из женщин.
Младшая не могла понять, зачем кому-то делать такое.
"Без всякой причины," — пояснил Копелев. — "Просто потому, что среди солдат есть те, кто стал жестоким, кто жаждет мести. Немецкие солдаты грабили, убивали, насиловали в нашей стране."
Старшая женщина продолжала недоверчиво качать головой:
"Этого не может быть."
Для них привычный, разумный мир вдруг рассыпался в хаосе. Порядок был нарушен, и это казалось невозможным.
И все же удивительно, что даже в таких условиях немецкая почтовая система продолжала работать вплоть до конца войны. 18 апреля Кауфманн нашел в одном из покинутых домов свежий номер Völkischer Beobachter.
3 мая 1945 года Элена Коган провела ночь в квартире пожилой четы в Бисдорфе, на окраине Берлина. Им принадлежал небольшой магазин свечей, расположенный прямо в их доме.
"Это было почти впервые за четыре года войны, когда я оказалась в нормальных условиях," — писала она.
Комната была типично немецкой:
На следующее утро хозяин неожиданно спросил квартирантку, сможет ли он пойти к дантисту.
Коган удивилась:
"Война — войной, но зубы-то лечить надо," — подумала она.
Но оказалось, что это была вовсе не зубная боль. Хозяин просто заранее записался на прием — за две недели до того, как Берлин пал.
"Новые цветы в вазе, поход к дантисту через три дня после капитуляции города... Как это возможно?" — размышляла Коган.
"Желание стабильности? Тяга к порядку? Не это ли позволило Гитлеру прийти к власти?"
Можно заметить, что образ немцев в советских мемуарах, письмах и дневниках был во многом построен на стереотипах:
Советские офицеры судили немцев по внешним признакам. Однако со временем они начали замечать, что не все немцы соответствуют этим клише.
Элена Коган спустя 20 лет после войны вспоминала, что среди пленных немецких солдат редко встречались те, чья душа "полностью пропиталась нацизмом". Гораздо чаще это были обычные люди.
В день капитуляции Берлина Гроссман заметил в зоопарке немецкого солдата, раненого, сидящего на скамейке и обнимающего медсестру.
"Они не смотрели ни на кого. Для них не существовало мира. Когда через час я снова прошел мимо, они сидели так же. Для них не существовало ничего, кроме их счастья."
Этот момент казался чем-то из Войны и мира. Гроссман мог ненавидеть нацистов — они убили его мать, уничтожили миллионы людей. Но он не потерял способности видеть в немцах людей.
Последний немецкий город, где Элена Коган провела много времени после войны, был Штендаль.
"Фашистских проявлений там практически не было," — писала она.
Город был неповрежден, а жизнь текла привычным руслом:
Все выглядело так, словно ничего не случилось.
"Вулкан войны мог погаснуть мгновенно, как только армия отступала," — писала Коган.
Советские солдаты, попавшие в Германию, неожиданно почувствовали вкус свободы.
Политработник Слутский писал:
"Мы внимательно следили за тем, какое влияние Европа оказывает на советского солдата. С каким сознанием он вернется домой? С гордостью за свою страну? Или с критическим взглядом на нашу действительность?"
Советское командование боялось, что военная кампания вызовет "новый декабризм".
Это опасение было не безосновательным.
Пропаганда, убеждавшая, что Советская власть — вершина прогресса, давала трещину, когда солдаты видели, как живут другие.
Рут Боджертс однажды сказала Померанцу:
"Ваше радио такое же скучное, как и наше. Мы слушали Би-би-си."
Померанц небрежно ответил, что в СССР у большинства людей радио вообще отобрали.
"Ого," — сказала Рут. — "Вы даже менее свободны, чем мы."
Вскоре советское командование начало ограничивать контакты солдат с немцами. В августе 1945 года вышел приказ маршала Жукова, запрещавший бойцам заходить в немецкие города.
Гельфанд был потрясен.
**"Нам запретили говорить с немцами, запрещено с ними ночевать, запрещено что-либо у них покупать. А теперь — запрещено даже ходить по немецким улицам.
Я хочу видеть мир! Я хочу понимать, как живут люди за границей.
Я хочу свободы! Свободы жить, думать, работать, свободы обладать своей жизнью!"**
Это были именно те мысли, которых боялось советское руководство.
Советская система вырастила людей, способных к критическому мышлению. Даже среди тех, кто воспитывался в духе "науки ненависти", кто потерял семьи в Холокосте, были гуманисты.
Давид Самойлов (Кауфманн) в 1961 году написал стихотворение:
"В сорок первом они стали солдатами.
В сорок пятом — гуманистами."
Эта строчка — не метафора. Это автобиография.
1
Лев Копелев,
Хранить вечно (Москва:
Земля-Книжный
клуб, 2004), 1: 102.
2 В.Н. Гельфанд, Дневники, 1941–1946
(militera.lib.ru/db/gelfand_vn/05.html, полученный
доступ
4 июня
2009), 28 января
1945.
3 Василий Гроссман, Годы войны, редактор
Э.
В. Короткова-Гроссман (Москва:
Правда,
1989), 447.
4 Б. С.
Итенберг, письмо его жене, 25 марта 1945, в личном архиве Б. С.
Итенберга.
5 Дэвидов Самоиловых, Поденные записи
(Москва: Время,
2002), 1: 216 (13 апреля 1945). Шверин обсуждал,
здесь был в Бранденбурге.
6 Элен Ржевскэ,
Берлин, май
1945: Зэписки военного переводчика. Медный зажим Издательство.. (Москва: Советский
писатель´,
1967), 32.
7 Борисов
Слуцкий, “Зэписки o
войне,”
О других и о себе
(Москва: Вагриус,
2005),
99.
8 Дэвидов Кофмэн
был капралом копья, но занял назначение чиновника.
9 Евгений Плимак, На войне и после войны: Зэписки ветерана (Москва: мир Веса, 2005), 7.
10 Анэтолий
Рибэковых, римлянин-воспоминание (Москва: Вагриус, 2005),
5.
11 Самоиловых, Поденные
записи 1: 204.
12 Гельфанд, Дневники1941–1946,
28 января 1945.
13 Копелев, Хранить
вечно, 1: 286–87.
14 Слуцкий, О других и о себе,
19.
16 Дэвидов Самоиловых, Памятные записки
(Москва: Международные отношения, 1995), 244.
17 Н. Н. Иноземцев, Фронтовой дневник,
2-й редактор (Москва: Наука, 2005), 210.
18 Слуцкий,
O других и о себе, 99.
19 Ржевская,
Берлин, май
1945, 19.
20 Слуцкий,
O других и о себе, 23.
21 Самоилов, Podennye,
1: 209–10 (7 февраля 1944).
22 Григорий Померанс, Зэписки гадкого
утенка (Москва: Росспен, 2003), 156.
23 Письма от В.
Н. Рогов я. Эренбург,
21 марта 1945, в Советские евреи пишут Илье Эренбургу (Иерусалим, 1993), 196.
24 Там же.,
196–97.
25 Норманов М.
Нэймарка, русские в Германии: История советской Зоны Занятия,
1945–1949
(Кембридж, Массачусетс: Belknap, 1996); Ричард Овери, война России (Лондон:
Пингвин, 1998), 260–62; Энтони
Бивор, Падение Берлина, 1945 (Нью-Йорк: Викинг, 2002), изданный в
Соединенном
Королевстве как Берлин: Крушение, 1945 (Лондон: Пингвин, 2002) -
расценки от
американского выпуска; Кэтрин Мерридэйл, война Ивана: Жизнь и смерть в
Красной
армии, 1939–1945 (Нью-Йорк: Столичные Книги, 2006),
301–28.
26 Naimark,
русские в Германии, 85.
27 Merridale,
война Ивана, 425 n. 49. Ссылка здесь Леониду Рабихеву, “Война
все спишет,” Знамя,
номер 2 (2005), доступный в magazines.russ.ru/znamia/2005/2/ra8.html,
получил
доступ 4 июня 2009. Рэбичев обсужден ниже.
28 Э. С.
Сениэвскэй, 1941–1945. Фронтовое поколение:
Историко-психологическое исследование (Москва: Институт российской
истории БЕЖАЛ, 1995),
80–81. Мы
отмечаем, что это - как будто автор был не очень потревожен, что
документы,
изданные ею как приложение к книге, противоречат ее заключениям.
29 The Daily
Telegraph, 25 января 2002.
30 Entoni Bivor
[Энтони Бивор], Падение Берлина, 1945, перевод с английского языка Iu.
Ф.
Михэйлов (Москва: АКТ; Tranzitkniga, 2004),
31 Слуцкий,
O других и о себе, 21.
32 Копелева, Хранить вечно, 1: 12.
33 Самоилова, Поденные, 1: 210 (10 февраля 1945).
34 Слуцкий,
O других и о себе, 99.
35 Копелева, Хранить вечно, 1: 103–6.
36 Самоиловых, Памятные записки, 288.
37 Копелева, Хранить вечно,
1: 107–9.
38 Там же.,
110–12.
39 Там же.,
123–37, 141–46. Копелев тянет действительно
апокалиптическую картину. Тем
временем, Майкл Вик, немецкий еврей, для кого прогресс Красной армии,
принесенной не свобода, но только движение от одной преследуемой
категории
населения другому, полагает, что Копелев преуменьшает
“масштаб и
продолжительность произвола” (Zakat Kenigsberga: Svidetel´stvo
nemetskogo evreia [Санкт-Петербург: Giperion; Потсдам: форум Nemetskii vostochnoevropeiskoi
kul´tury, 2004], 191).
40 Иноземцев, Фронтовой дневник, 209. Часть удаленной цитаты (и
сообщенный эллипсами) содержит
неразборчивые слова.
41 Сохрани мои письма. Сборник писем и дневников евреев
периода Великой Отечественной войны (Москва:
Tsentr я
Любящий “Холокост” Mik, 2007), 281–82
(примечание с 25 января 1945).
42 Сохрани мои письма. Сборник писем и дневников
евреев периода Великой Отечественной войны ,
160, 165.
43 Гельфанд, Дневники1941–1946,
21 февраля и
26 февраля 1945.
44 Слуцкий,
O других и о себе,
21–23.
45 Sokhrani moi pis´ma, 261.
46 Слутский,
O drugikh я o sebe, 20–21.
47 Самоиловых, Pamiatnye zapiski, 267, 272, 273, и
274–75.
48 Plimak, Na voine я posle
voiny,
29–33. Плимэк вспоминает, как в январе 1945, водитель
резервуара T-34,
который везет безумным напряжение, он испытал, сокрушил колонку
военнопленных
под его шагами резервуара, которые его товарищ по оружию наблюдал с
любопытством (19).
49 Копелева, Khranit´ vechno, 1:
183.
50 Sokhrani moi
pis´ma, 263.
51 Письмо его
матери, 3 апреля 1945. У Tsoglin не было особенно теплых чувств для
Советов,
которые были освобождены от немецких лагерей также: “Среди
них, конечно, те,
кто едва видит свободу. Если бы я был командующим, то я убил бы их
всех” (там
же., 265).
52 Василия
Вэзил'евича Черкина. “Dnevnik opolchentsa 88 - идут
artilleriiskogo полька 80-i
strelkovoi Liubanskoi divizii Vasiliia Churkina, ot zapi 29 ianvaria
1945 г.,”
в S. V. Kormilitsyn и A. V. Лизев, Lozh´ot Sovetskogo
Informbiuro
(Санкт-Петербург: Нева, 2005). Также доступный в
militera.lib.ru/db/churkin_vv/index.html, полученный доступ 4 июня 2009.
53 Самоилова,
Pamiatnye zapiski, 275.
54 Там же., 22.
55 Там же., 24.
56 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 170–71.
57 Там же., 171.
58 Рэбичева, “Voina vse spishet.”
59 Russkii arkhiv: Velikaia Otechestvennaia. Зона действий Bitva Берлин (Krasnaia armiia v poverzhennoi
Germanii)
15, pts.
4–5 (Москва: Земля, 1995), 246.
60 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 82.
61 Plimak, Na voine я posle
voiny,
41–43.
62 Это обращается
к публикации статьи Алексэндрова в Правде 14 апреля 1945. См. n. 15.
63 Самоилова,
Pamiatnye zapiski, 286.
64 Копелева,
Khranit´ vechno, 1: 149, 340.
65 Там же.,
112–15.
66 Самоиловых,
Pamiatnye zapiski, 287.
67 Рэйс Орловых и
Лев Копелев, Мой zhili v Moskve: 1956–1980 (Москва: Kniga,
1990), 120.
68 секретное
сообщение от Л. П. Берии я. V. Сталин и V. М. Молотов о постыдном
поведении
солдат Красной армии в Lubianka: Сталин i
NKVD–NKGB–GUKR "Smersh".
1939-аукционный зал 1946 (Москва: Mezhdunarodnyi любящий
“Demokratiia”;
Materik, 2006), 503.
69 Там же.,
503–4.
70 Russkii
arkhiv: Velikaia Otechestvennaia: зона действий Bitva Берлин, 221.
71 Самоилов,
Pamiatnye zapiski, 287.
72 Копелева,
Khranit´ vechno, 1: 146.
73 В письме этой
статьи, я не делал специфического выбора мемуаров этническим
происхождением их
авторов. Очевидно, такое известное господство евреев среди авторов
пограничных
дневников и мемуаров объяснено до существенной степени более высоким
уровнем
образования евреев по сравнению с солдатами других национальностей.
Таким
образом, в соответствии с переписью СССР 1939, 1 000 жителей тем (обоих
полов)
с образованием средней школы среди евреев было 268.1 лет, среди
Украинцев 82.1,
среди русских 81.4; тем с высшим образованием среди евреев было 57.1
лет, среди
русских 6.2, и Украинцев 5.1. Из 1 000 мужчин тем с высшим образованием
среди
евреев было 69.5 лет, среди русских и Украинцев 8.8. В абсолютных
числах было
больше евреев с высшим образованием чем Украинцы, и только 3.5 раза
меньше
евреев с высшим образованием чем русские, даже при том, что русские
превзошли
численностью евреев к 33 разам. См. naseleniia perepi Vsesoiuznaia 1939
goda:
Osnovnye itogi, редактор Иу. A. Полиэков и др. (Москва: Nauka, 1992),
57, 86.
Работы 74 Гроссмана над “еврейскими темами” вышли
под тем названием в двух объемах в
Иерусалиме в 1985 и были переизданы в 1990. См. также Джона и Кэрол
Garrard,
Кости Бердичева: Жизнь и Судьба Гроссмана Vasily (Нью-Йорк: Свободная
пресса,
1996).648
75 Самоиловых,
Podennye, 1: 47 (29 ноября 1935).
76 Там же., 61 (6
марта 1936).
77 См. Джудит
Деуч Корнблэтт, Вдвойне Выбранную: еврейская Идентичность, советская
Интеллигенция, и Русская православная церковь (Мадисон: университет
Висконсинской Прессы, 2004).
78 Самоиловых,
Pamiatnye zapiski, 54.
79 Орлов и
Копелев, Мой zhili v Moskve, 190: интервью относительно немецкого
телевидения
26 июня 1979.
80 Копелева,
Khranit´ vechno, 2: 196–97, 16.
81 Копелев, Utoli moia pechali (Москва: Slovo, 1991), 46.
82 Itenberg,
письма его жене, 26 февраля и 16 марта
1945.
83 Самоилова, Podennye,
1: 208 (4 февраля 1945).
84 Itenberg,
интервью, апрель 2007.
85 Самоиловых, Podennye,
1: 208 (10 февраля 1945).
86 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 158.
87 Копелева, Khranit´
vechno,
1: 163–64.
88 Там же.,
286–87.
89 Там же.,
162–63.
90 Там же.,
295–97. О смерти родственников Копелева, см. Копелева, Utoli moia pechali, 289–91.
91 Itenberg,
письмо его родителям, 13 августа 1944.
92 Gel´fand, Dnevniki 1941–1946, 23 ноября 1945,
Fürstenberg.
93 Самоилова, Podennye, 1: 218 (24 и 27 апреля 1945).
94 Рибэкова, римлянин-vospominanie, 103–5.
95 Rzhevskaia, Берлин, mai 1945, 177–78.652
96 Gel´fand, Dnevniki 1941–1946, 17 и
19 октября
1945.
97 Vik, Zakat Kenigsberga, 192.
98 Самоиловых,
Podennye, 1: 218 (17 апреля
1945).
99 Там же., 218
(23 апреля 1945).
100 Слутский, O
drugikh я o sebe, 107–17.
101 Там же.,
117–18.
102 Там же.,
118–21.
103 Там же., 120.
104 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 156.
105 Слутский,
O drugikh я o sebe, 122.
106 Там же.,
122–23.
107 Там же., 128.
108 г. Ф.
Кривошив, редактор, Rossiia я SSSR v voinakh XX veka: Poteri
vooruzhennykh sil (Москва: OLMA-нажмите,
2001); naseleniia perepis´ Vsesoiuznaia 1939 goda, 57; М. Куповетский, “Liudskie poteri evreiskogo naseleniia
v poslevoennykh granitsakh
SSSR v gody Velikoi Otechestvennoi
voiny,”
Vestnik Evreiskogo universiteta
v Moskve, номер 2 (9) (1995): 152, стол 9;
Mordechai Altshuler, советские Евреи накануне
Холокоста: Социальный и Демографический Профиль
(Оксфорд: Книги Berghahn,
1998), 16–18.
109 “Spravka Otdela почтовый uchetu я registratsii nagrazhdennykh
pri
Секретэриэт
Президиума Верховного Совета СССР o
kolichestve nagrazhdennykh ordenami я medaliami
SSSR
зона действий vremia Velikoi Otechestvennoi
voiny
[15 maia
1946 г.], Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi
Federatsii
(GARF) f. R-7523, op. 17, d. 343, ll. 11–12. Документ был представлен Л. С.
Гэйтаговэ.656
110 Борисов Слутския, Stikhi raznykh позволяли: Iz neizdannogo (Москва: Sovetskii
pisatel´,
1988), 121. Перевод от Бориса
Слутского, Вещи, Которые Случились, редактор и сделка. Г. С. Смит
(Москва: Glas,
1999), 185.
111 Rzhevskaia,
Берлин, mai
1945, 171–73.
112 Там же.,
164–66.
113 Russkii arkhiv: Velikaia Otechestvennaia. Prikazy
narodnogo komissara oborony SSSR (1943–1945 строительных
стекол.), 13, pts.
2–3 (Москва:
Земля, 1997), 344–48.
114 Слутский,
O drugikh я o sebe, 35.
115 Churkin,
Dnevnik opolchentsa, 6 февраля
1945.
116 Сэмоиловых, Podennye,
1: 211 (20 февраля 1945).
117 Слутский,
O drugikhi я o sebe, 96.
118 Sokhrani moi
pis´ma, 281. Генкин, однако, также видел “вторую
сторону” вопроса: “Замученный
немецкий город! Это ответило для мучений тысяч наших российских
братьев,
превратился в пепел немцами в 1941. ”
119 Itenberg,
письма его жене, 18 января и 10 февраля 1945.
120 Itenberg,
интервью, апрель 2007.
121 Gel´fand,
Dnevniki, 1941–1946, 30 января 1945.
122 Там же., 3
февраля и 1 марта 1945.
123 Там же., 3
апреля 1945.
124 Сэмоилова, Pamiatnye zapiski, 290.
125 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 164, 167.
126 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 25 апреля
1945.
127 Itenberg,
интервью, апрель 2007.
128 Itenberg,
письмо его жене, 10 апреля 1945.
129 Сэмоиловых, Podennye,
1: 222 (21 апреля 1945).
130 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 167.
131 Grossman,
Gody voiny, 456.
132 Sokhrani moi pis´ma, 283.
133 Vasily Grossman, Автор в состоянии войны: Vasily Grossman
с Красной
армией 1941–1945, редактором и сделкой Энтони Бивор и Луба
Виногрэдова (Лондон: Pimlico, 2006), 326. Издатели
его портативных компьютеров военного периода (Gody voiny), который
появился в
конце перестройки, не рисковали или не могли напечатать эти записи и
несколько
других Grossman. Полный текст портативных компьютеров не был издан на
русском
языке в постсоветской России также. Мы отмечаем, в то же самое время,
что
издатели английского перевода "Портативных компьютеров" Гроссмана
по-видимому не подозревали — или в least, не упоминал
— что они были изданы на
оригинальном языке, даже если с несколькими сокращениями. См. обзор
Франком
Эллисом в Журнале славянских Военных Исследований 20, 1 (2007):
137–46.
134 Grossman,
Gody voiny, 457. Впоследствии от этого примечания выращивал историю
"Tiergarten" Гроссмана. См. Гроссмана Vasilii, Нескол'ко
pechal´nykh
dnei (Москва: Sovremennik, 1989), 277–302.
135 Naimark,
русские в Германии, 85.
136 Beevor,
Падение Берлина, 1945, 31.
137 Иноземцева,
Frontovoi dnevnik, 210, 218.
138 Naimark,
русские в Германии, 85; Merridale, война Ивана, 319–20.
139 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 163.
140 Слутский,
O drugikh я o sebe, 101.
141 Там же.,
101–3.
142 Сэмоилова,
Podennye, 1: 222 (21 апреля 1945).
143 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 163.
144 Копелева
Khranit´ vechno, 1: 144–45.
145 Grossman,
Автор в состоянии войны, 326–27.
146 Там же., 327.
147 Plimak, Na voine я
posle voiny, 20–21.
148 Померанс, Зэписки
gadkogo utenka, 164, 166.
149 Grossman, Gody voiny, 456; Grossman, Автор в
состоянии войны,
340.
150 Слутский, O drugikh я
o sebe, 100–1.
151 Померанс, Зэписки
gadkogo utenka, 162.
152 Слутский, O drugikh я o sebe, 103.
153 Померанс, Зэписки gadkogo utenka, 120.
154 Beevor, Падение Берлина, 1945, 32.
155 Там же 666
156 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 166. “[W] предзнаменование, хорошо
одетые городские
женщины — девочки Европа первая дань, которую мы взяли от
побежденного”
(Слутский, O drugikh я o sebe, 44).
157 Слутский, O
drugikh я o sebe, 103.
158
“Soprovoditel´noe pis´mo politicheskogo
sovetnika почтовый delam Австрий Э. Д.
Кизелева zamestiteliu narodnogo komissara inostrannykh del SSSR V. Г.
Dekanozovy k dokladnoi zapiske o politicheskikh nastorniiakh v г. Вяна
я v
sovetskoi зона okkupatsii Австрий,” в Умирают Механический
Armee в Österreich:
Sowjetische Besantzung, 1945–55. Dokumente / Krasnaia Armiia
v Австрий:
Sovetskaia okkupatsiia, 1945–1955. Dokumenty, редактор Штефан
Карнер, Барбара
Стелзл-Маркс, и Александр Чубарджен (Грац: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag,
2005), 300, 304. Половину года спустя, случаи грабежа и насилия
продолжали
отмечаться, и после полутора лет, уровень преступности среди солдат
советских
войск занятия в Австрии был все еще довольно высок. В конце 1946,
согласно
информации от австрийского Министерства Интерьера, в ходе месяца 562
преступления были переданы советскими войсками, по сравнению с 38
американцами,
30 французами и 23 англичанами.“ Эти данные были ясно собраны
тенденциозно,” Г.
Н. Молочковский, корреспондент ТАСС в Отделе Центрального комитета
Пропаганды и
Агитации, заявил. “Однако, советские командующие подтверждают
частые акты
недисциплинированного поведения советскими войсками и нарушениями
закона,
переданного ими.” См., Умирают Механический Armee, 614, 630.
159 “Tsirkuliar
vremennogo pravitel´stva zemli Shtiriia vsem otdelam
zdravookhraneniia o
regulirovanii voprosov preryvaniia beremennosti почтовый sostoianiiu
zdorov´ia
Или drugim osnovaniiam, 26 maia 1945 г.,” в там же.,
606–8.
160 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 166.
161 Процитированный
в thelib.ru/books/bondarev_yuriy/bereg-read.html, полученный доступ 4 июня 2009.
162 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 15 мая
1945.
163 Там же., 26 октября
1945.
164 Померанс,
Зэписки gadkogo utenka, 164–65,
167–68.
165 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 3 июня
1945.
166 Там же., 18
июля 1945.
167 Там же., 26
июля 1945.
168 Там же., 16
октября 1945.
169 Там же., 25
октября 1945.
170 PPZh—polevaia
pokhodnaia zhena (мобильная полевая жена), как стабилизируют любителей,
назвали
в армии.
171 Gel´fand,
Dnevniki, 1941–1946, 26 октября 1945.
172 Там же., 12
декабря 1945.
173 Там же., 23 декабря
1945.
174 Plimak, Na voine я
posle voiny, 34–38, 41–49.
175 Там же.,
52–53 и
5–9.
176 “Iz direktivy Politotdela 19-i Armii o merakh почтовый ukrepleniiu
politicheskoi
bditel´nosti я
voinskoi
distsipliny ot 26 fevralia 1945 г.;
Iz doneseniia politotdela 205-i strelkovoi divizii Обь ukreplenii voinskoi distsipliny,
poriadka я
organizovannosti v
podrasdeleniiakh ot 8 aprelia 1945 г.,”
процитированный в
Seniavakaia,
Frontovoe pokolenie, 206, 209.
177 Рибэковых,
римлянин-vospominanie,
108.
178 Сэмоиловых,
Podennye, 1: 225 (4 сентября
1945).
179 Дэвидов Сэмоиловых,
“Blizhnye strany,” в
Izbrannye proizvedeniia, 2 издания
(Москва:
Khudozhestvennaia
literatura, 1990), 2: 23.
180 Там же.,
24.
181 Сэмоилов,
Pamiatnye zapiski, 281.
182 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 30 января 1945.
183 Itenberg,
письмо его жене, 25 марта 1945.
184 Сэмоилова,
Pamiatnye zapiski, 289.
185 Rzhevskaia,
Берлин, mai 1945, 33.
187 Rzhevskaia,
Берлин, mai
1945, 92–93.
188 Согласно Valerii Pozner.
189 Любви - то,
когда два человека на земле живут на небесах.
190 Сэмоиловых,
Podennye, 1: 217 (14 апреля 1945).
191 Grossman,
Gody voiny, 453.
192 Сэмоилова, Podennye,
1: 222–23 (23 апреля 1945).
193 Rzhevskaia,
Берлин, mai
1945, 178–79.
194 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 14 августа
1945.
195 Там же., 17
октября 1945.
196 Сэмоиловых,
Podennye, 1: 217 (14 апреля 1945).
197 Там же., 218
(17 апреля 1945).
198 Itenberg,
письмо его родителям, 13 августа 1944.
199 Gel´fand,
Dnevniki, 1941–1946, 14 ноября 1945.
200 Там же., 29
октября 1945.
201 Сэмоилов,
Podennye, 1: 209 (5 февраля 1945); также в Сэмоилове, Pamiatnye
zapiski, 281.
202 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 3 февраля
1945.
203 Сэмоилова, Podennye,
1: 99.
204 Rzhevskaia,
Берлин, mai
1945, 32.
205 Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 28 апреля
1945.
206 Sovetskie evrei, 197.
207 Сэмоиловых, Pamiatnye zapiski, 281–82.
208 Itenberg,
интервью, апрель 2007.
209 Копелева, Khranit´
vechno,
1: 148.
210 Сэмоиловых, Pamiatnye zapiski, 284.
211 Rzhevskaia,
Берлин, mai 1945, 92–93.
212 Там же., 93.
213
Grossman, Gody voiny, 457.
214
Rzhevskaia, Берлин, mai 1945, 188–90.
215 Слутский, O drugikh я o sebe, 55.
216 Померанс, Зэписки gadkogo utenka, 164.
217
Gel´fand, Dnevniki, 1941–1946, 9 августа 1945.
218 Сэмоиловых,
Podennye, 1: 226 (26 декабря 1945; 14 декабря 1825 старым календарем).
219 Сэмоиловых,
Izbrannye proizvedeniia, 1: 58.
ОЛЕГ
БУДНИЦКИЙ: "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ВСТРЕЧАЕТ ВРАГА"
