




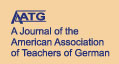
 |
American Association
of Teachers of German Serving teachers of German since 1926 |
Article first published: 16 FEB 2015
Volume 88, Issue 1, pages 82–103, Winter 2015
Edited By: Robert E. Norton
Online ISSN: 1756-1183
Philomela’s
Legacy:
Rape,
the Second World War,
This article addresses the ethical quandaries of
the wartime rape of German women by Russian soldiers during the last
months of the war. In particular, I discuss the multiple challenges
involved in reading such rapes: the danger of identifying the
victimization of these women with the victimization of the German
nation; the danger of trivializing or downplaying the suffering of the
rape victim; the challenge of writing about rape without recycling Nazi
narratives. Rape is, as Sabine Sielke maintains, “a dense
transfer point for relations of power.” My readings show
that, when wartime rape is made to serve an ideological agenda, as it
inevitably is, the experience of the victim, her trauma and pain,
threaten to disappear amidst the noise of justifications, metaphors,
and political deployments. Drawing on the mythical model of Philomela,
I argue that there is a legacy of violence in both silence and in
writing, but there is also an ethics of reading that allows one to pay
tribute to the victims’ suffering even as one negotiates and
recontextualizes their stories.
And that deep torture may be call'd a hell,
When more is felt than one hath power to tell.
—Shakespeare, “The Rape of Lucrece”
During the last two decades, the German book market has been flooded with publications that highlight the victimization of Germans in the wake of the Second World War. Bill Niven claims that the interest in German suffering “has taken on an obsessive dimension” (8), while Anne Fuchs points out that these works are often presented as a “triumphant recovery of unofficial private memories of the Nazi period” (7). Such increased attention, however, does not imply that these works have lost their controversial character. In particular, stories about the rape of German women by Russian soldiers remain ethical minefields. Told from the perspective of the perpetrator, these stories turn coercion into consent. Told from the perspective of the victim, they are likely to recycle Nazi narratives, according to which the Russians are beasts; the Poles, murderers; and the German soldiers, saviors.
In the following, I will discuss representations of the mass rape of German women during the end of the Second World War when the Russian army advanced West. So far, scholars have focused mostly on filmic representations, in particular on Helke Sander's controversial Befreierund Befreite,1 or honed in on a narrow corpus of texts, such as Eine Frau in Berlin. In contrast, I perform a detailed analysis of literary texts and memoirs that have received little or no critical attention. Moreover, unlike previous analyses, I juxtapose texts by Russian and German authors because I believe that a bi-national perspective is best suited to illuminate the ethical complexity and uneven nature of these texts.
As I will show, stories of wartime rape do not fit the categories that define classic narratives of war, and there is no established discourse that does justice to these stories (see Rogoff 265, Dahlke 212). They defy established power structures, they challenge traditional concepts of victimization and agency and of silence and discourse, they are uneven and contradictory, and they are insolubly tied up with the body. Rape is, as Sabine Sielke maintains, “a dense transfer point for relations of power” (2). When wartime rape is made to serve an ideological agenda, as it often is, the experience of the victim, her trauma and pain, threaten to disappear amidst the noise of justifications, metaphors, and political deployments.
My reading of literary texts and memoirs of rape victims suggests that there is a dilemma inherent to this form of victimization.2 Typically, rape, a crime that is strongly associated with shame, is referred to and evoked in quasi-formulaic language, but not narrated extensively. Consequently, narratives of rape are often suspended halfway between silence and discourse. Although many rape victims consider public acknowledgment of the trauma of rape to be therapeutic, they often do not perceive elaborate narrations of rape as conducive to their healing process. But this partial silence, intended to avoid a reinscription of the original trauma, also contributes to a corresponding silence in public discourse.
In order to elucidate the narrative and ethical complexity of rape narratives, I introduce in the first section of the article the historical context and theoretical framework of my analysis. In the second section, I discuss the fiction of “consensual” rape in Deutschland Tagebuch 1945–46 by the Red Army soldier, Wladimir Gelfand, and contrast Gelfand's account with representations of rape in Alexander Solzhenitsyn's Prussian Nights (1974) and in Lev Kopelev's memoir, To Be Preserved Forever (1976). In the third section, I focus on memoirs of German rape victims, in particular on Gabi Köpp's Warum war ich bloß ein Mädchen. There, I show that, in these accounts of rape survivors, the trauma and shame of rape obstruct the effort of narration, in such a way that the experience of rape is often elided. I conclude by analyzing the political deployment of rape in Ingo Münch's historical study, Frau komm! Die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944–45, and the tendency to downplay the suffering of rape victims in works by two female historians. In all these accounts, rape is silenced, denied, or drowned out either because of the shame associated with the experience or because of the political agendas of the authors. Thus, rape becomes invisible even in texts that explicitly address the topic of wartime rape.
It is an established fact that Russian soldiers raped several hundred thousand German women. Some estimate that as many as two million women were victimized (Jacobs 10, Naimark 133, Sander 5), many of whom were raped multiple times by several soldiers. There was no target demographic. Although children were often, though not always, spared, young girls were not. Nor were old women, pregnant women, nuns, or Holocaust survivors. Frequently, women who refused were beaten brutally or killed while husbands or parents who tried to protect them might be shot. Rapes were committed in private bedrooms, in ditches by the side of the road, and in full view of family members or even entire communities. Many women did not survive the ordeal. Some succumbed to injuries incurred during the rape; some were killed after the rape; many committed suicide. Some women entered an exclusive relationship with an officer who offered protection in exchange for sexual services. Others tried to hide, pretended to be sick, or cross-dressed to disguise their gender. Some women betrayed others to save themselves. As a consequence of the rapes, many women were pregnant with the child of a Russian soldier, and many more contracted venereal diseases. In theory, rape was punishable by death. In actuality, most rapists acted with impunity.
In their edited collection, Rape and Representation, Lynn Higgins and Brenda Silver claim that, in narrative, “rape exists as an absence or gap that is both product and source of textual anxiety” (3). This is certainly true, but in the German context these absences are of a peculiar nature. First, given the staggering scale of the rape crimes, the number of narratives is few, indeed. Second, when rape features in victims’ narratives, it tends to be referred to rather than described, evoked rather than presented. Thus, we are not dealing with an absence, but rather with a partial absence. Third, rape is subject to a taboo, but a taboo that is, as Laurel Cohen-Pfister has shown, “repeatedly broken and then reinstituted” (318). Consider a story recounted by Kuwert and Eichhorn (9). Here, a rape victim from the Second World War wins an essay prize for a narrative about her traumatic experience. When she is handed the prize, however, she is instructed never to mention “that” (9) again. Clearly, a simple dichotomy of silence versus narration does not adequately describe discourses on rape.3
In the German discourse, the taboo and shame associated with all forms of rape is exacerbated by the politically charged nature of these rapes, since the victims in question were citizens of Nazi Germany. Until recently, many writers on the left adhered to a moral imperative, according to which the knowledge of German crimes against Russians mandated silence about Russian crimes against Germans. It was assumed that any acknowledgment of crimes committed against members of the perpetrator nation ran the risk of relativizing German war crimes and the Holocaust and “indicated tacit approval of the anti-Bolshevik program of the Nazis” (Naimark 3). Even feminists adhered to the party line. In her landmark study of rape, Against our Will, Susan Brownmiller proclaims “that a noticeable difference in attitude and behavior toward women existed on the part of the armies of liberation as opposed to the armies of conquest and subjugation in World War II” (64). Here, the victimization of German women is minimized in favor of a narrative of liberation. Such silencing was taken to extremes in the GDR, where any memory of the rape was banished, lest it tarnish the reputation of the Soviet “brothers” (Eichhorn and Kuwert 30, Poutrus 121).
Conversely, on the right end of the political spectrum, the suffering of Germans takes center stage while German crimes recede into the background. Here, the rapes are reinterpreted to signify the violation and rape of the entire German nation. Thus, the question is: how “to address German suffering in light of the suffering caused by Germans or whether German victimhood can even be addressed without simultaneously calling into remembrance the millions harmed or killed by Germans” (Cohen-Pfister 321).
It is hardly accidental that the classic victim of rape, Philomela, is violated in two distinct ways: first she is raped, then her tongue is cut out. Philomela, however, does not remain silent but weaves a tapestry that illustrates her experience. The story of Philomela teaches us an important lesson. It shows that the discourse of rape is not simply one of silence, but a complicated transaction where an irresistible desire to express oneself exists alongside different forms of silence, repression, and redeployment. Because rape hinges on the question of consent and thus on “the primacy of psychological states” (Ferguson 99), it is a crime that does not exist without narrative. Consequently, in analyzing the representation of rape, we must attend not only to “the rhetoric of rape” (Sielke 1), to the various silences that undergird these narratives, and to the white noise that hides the silence, but also to the many discourses in which rape is detached from individual suffering and made to perform the work of ideology.4 Even amidst a proliferation of texts about rape, the voice of the victim— what Cathy Caruth calls the “voice that cries out from the wound” inflicted on body and mind (3)—may still be missing. Moreover, we must attend to our own discomfort with these stories, to our unease about how these stories defy conventional moral categories, and to the fact that we as readers enjoy the luxury of detachment because, unlike the memoirist, we are not trapped in a body that bears the trauma of this history. As Tanner reminds us, the “reader's freedom parallels the autonomy of the violator […] Insofar as the reader's imagination manipulates the victim's body as a purely textual entity, the reality of pain and the vulnerability of that body may be obscured by the participation of a reading subject who perpetuates the dynamics of violation” (Tanner 10). If we as readers fail to do justice to the dual challenge of these texts, that is, if we fail to acknowledge either the suffering of the victims or the political complexities and moral quandaries inherent in these stories—we are likely to reactivate the trauma of rape or to replicate the silence that obstructs the representation of rape in the first place.
While there are only a few stories that focus on German victims of wartime rape, there are even fewer accounts of rape told from the perspective of Red Army soldiers. In spite of the relative absence of first-hand documents, historians have sought to understand the motivations that underlay the orgies of destruction and rape the soldiers performed on the way to Berlin. Many point to the role of alcohol in unleashing violence and also to the fact that the soldiers had been brutalized through the constant exposure to violence and death during four years of war.5 Others make mention of the shtrafniki, members of punishment units, some of whom had been in prison for political reasons, others for violent crimes. Then there was the impact of German wealth on Soviet soldiers. Three quarters of the Red Army came from villages, and many had never seen an electric light or been on a train before the war (Merridale 14, 21). To these soldiers, German wealth (or what was left of it) was exotic and came to symbolize the German claim to national superiority even without overt reminders of Nazi racial ideology. Most importantly, perhaps, all these impulses that fostered violence were stoked by relentless propaganda. According to Catherine Merridale, “there is no doubt that the men's activities were encouraged, if not orchestrated, by Moscow” (312). As the Russians closed in on Germany, many soldiers were exhausted and wished to go home. In response, the political officers intensified their propaganda efforts. Ilya Ehrenburg's saying, “If you have not killed at least one Germana day, you have wasted that day” (Naimark 72), is perhaps the most prominent, but by no means the only example of a propaganda of hate. Exhortations to rouse the Fascist beast from its lair were accompanied by pictures of the horror of Majdanek, the first concentration camp discovered by the Red Army, and sweetened by the prospect of plunder. Finally, Red Army soldiers were acutely aware of their inferior status in the Nazi racial hierarchy. The slogan, “Break with force the racial arrogance of Germanic women! Take them as legitimate spoils of war” (Nawratil 228), attributed to Ilya Ehrenburg, expresses this sense of racial inferiority poignantly. Taken together, these motivations amounted to a volatile mix that led to the rape of hundreds of thousands of women.
In the memoirs of Russian veterans from the Second World War, as well as in NKVD reports of the time, rape simply does not exist (Naimark 85). When Russian veterans do speak about wartime rape, they frequently insist that the women had participated willingly. In ways both subtle and crass, a narrative of violence and coercion is replaced by one of consensual intercourse.6 This discursive shift is evident in interviews with Red Army veterans conducted by the German filmmaker Helke Sander. There were no rapes, one veteran suggests. Rather, the women followed their own needs: “Sie haben das aus eigenem Bedürfnis gemacht” (119). Similarly, Ingeborg Jacobs reports that the Red Army veterans she talked to invariably claimed that German women had not resisted for a long time and that some had even lifted their skirts (8). Statements such as these accord with Merridale's finding that misogyny was rampant in the Red Army,7 though it should be pointed out that the Red Army was certainly not the only army afflicted with misogyny (nor were Red Army soldiers the only soldiers guilty of rape).8 In The Fall of Berlin, Beevor cites a British journalist who reports that the Russians “often raped old women of sixty, seventy or even eighty—much to these grandmothers’ surprise, if not downright delight” (Beevor 31). Bourke reports that American servicemen liked to boast that “German soldiers fought for six years, the German women for only five minutes” (373). The same attitude prevailed among parts of the German population, as evidenced by an issue of the German journal Der Stern from 1948 entitled, “Hat die deutsche Frau versagt?” The assumption that underlies this question suggests not only that German women were eager participants in the crimes committed against them, but that the rape constituted a moral failure, a betrayal of their husbands and fathers.
The pattern that transforms coercion into consent also characterizes Wladimir Gelfand's Deutschland Tagebuch 1945–46, which was published in Germany and Sweden, but not in Russia. In light of the general dearth of accounts of rape told from the perspective of Russians soldiers, Gelfand's memoir is a highly unusual document, even more so since Gelfand, a native Ukrainian, was of Jewish descent. Gelfand had planned to write a novel based on his notes, but died before he could execute his plan. In its present form, Deutschland Tagebuch, a collection of letters and diary entries, is based on Gelfand's extensive literary estate and edited by Elke Scherstjanoi. The book offers vivid descriptions of everyday life on the front and in occupied Berlin. Gelfand discusses battles and party and world politics, but he also dwells on trips to the movies, his amorous designs, personal gripes, and encounters with German civilians.
For the most part, Gelfand's notes, in which sexual violence is largely absent, suggest that we are dealing with a ladies’ man, not a rapist. Gelfand portrays himself as a man who does not so much pursue women, as he is pursued by them.9 And yet, though cruel violence is absent in his account, coercion is not. Gelfand's amorous gestures are interlaced with intimations of various forms of strong-arming, bullying, and compulsion. Convinced that German women “Zärtlichkeiten nicht ab[lehnen], wie sie ja allgemein nichts ablehnen” (111), Gelfand sees himself as a sheep among wolves, a gentleman who helps damsels in distress. He is the type of soldier who is approached with offers of an exclusive relationship in exchange for protection. But, as such offers suggest, under the dire circumstances of the immediate postwar period, consent is a troubled concept. Gelfand is fully aware that both protection and food can be traded for sex and uses his buying power quite consciously. In the following episode, for example, Gelfand proclaims with utter confidence that the proffered victuals should buy him the right to all kinds of intimacy:
Schließlich habe ich auf dem Altar für vertrauensvolle und wohlwollende Beziehungen Lebensmittel, Süssigkeiten und Butter, Wurst und teure deutsche Zigaretten niedergelegt. Bereits die Hälfte wäre genug, um mit Fug und Recht mit der Tochter vor den Augen der Mutter alles Erdenkliche anzustellen […] Lebensmittel sind heute wertvoller als das Leben. (157)
Where starvation is a real and immediate threat, the line between prostitution and rape is thin, indeed.
While this episode blurs the boundary between prostitution and consensual intercourse, the memoir also contains several explicit references to rape. Curiously, though, what starts out as an account of rape invariably turns into a narrative of consensual sex. In particular, Gelfand relates a bizarre incident during which he and his men take several members of a German women's battalion prisoner. Since there never was a German women's battalion (61), Gelfand is either confusing female army auxiliaries with women soldiers, or he is simply making this up. Gelfand explains that these captured female soldiers are divided into three groups: native Russians (presumably forced labor), who are shot as traitors; married women; and girls. The last group is then “verteilt”:
Aus der dritten Gruppe wurde die “Beute” über die Häuser und Betten verteilt, und dort wurden einige Tage lang mit ihnen Experimente angestellt, die auf Papier nicht wiederzugeben sind. Die Deutschen hatten Angst; den jüngeren widersetzten sie sich nicht, und sie flehten diese an, daß sie mit ihnen schlafen sollten, um bloß den Schändungen durch die älteren Soldaten zu entgehen. Zu dieser glücklichen Altersgruppe gehörte auch Andropow. Er wählte sich die Allerjüngste und nahm sie mit, um mit ihr zu schlafen. Doch als er sie bedrängte, sein grundlegendes Anliegen zu befriedigen, schüttelte sie den Kopf und flüsterte verschämt: {Das ist nix gut}, ich bin doch Jungfrau […]. Sie weigerte sich noch eine ganze Zeit, bis er die Pistole zog. Da wurde sie still und zog zitternd ihre Gamaschenhose herunter […]. Da gab er mit einem Nicken zur Pistole den Rat: nur {gut machen} […]. So arbeiteten sie einmütig und kamen ans Ziel. Er spürte, daß etwas zerriß, das Mädchen schrie auf und stöhnte […]. Sie konnte sich aber bald zu einem Lächeln zwingen. Er gab ihr Zivilkleidung, ein Kleid zum Anziehen, und sie ging nach draußen zu ihren Leidensgenossinnen, fröhlich und unschuldig. (62)
This account is quite remarkable. What starts out as a clear reference to rape turns into a tryst of young lovers, topped off by the claim that the rape victim left the scene of the crime “fröhlich und unschuldig.” At several points, the narrator alternates between an open acknowledgment of violence and coercion, even of atrocity, and an emphasis on the willing cooperation of the victims. Although Gelfand is aware that the women seek young lovers in order to avoid older men, he still refers to the young men as a “glückliche Altersgruppe.” Similarly, although Gelfand knows that the young woman who is raped by Andropow resists until threatened at gunpoint, he describes the two lovers as acting in unison toward a common goal. Even as he describes the crime of rape, Gelfand erases it.
There is a casualness and irony to Gelfand's accounts of rape that is deeply troubling. And yet, his diary entries are also uniquely qualified to illustrate the ethical complexities of sexual encounters between Russian soldiers and German women. Note, for example, the following episode in which Gelfand invites a German woman to his room. The woman follows him willingly at first, or so he claims, but has second thoughts and wants to leave. Again, an encounter that appears consensual in the beginning becomes coercive as Gelfand refuses to let her go: “sie wollte nach Hause und versuchte mich zu überreden, sie gehenzulassen. Das konnte ich selbstverständlich nicht tun, denn was wäre ich dann für ein Mann” (186). Finally, the situation reaches an absurd climax when the German woman, munching on food Gelfand has provided her, starts to share her opinions on Jews: “Sie sprach mit Abscheu von den Juden, erklärte mir die Rassentheorie. Faselte von weißem, rotem und blauem Blut” (187). Gelfand, who had not only survived the battle of Stalingrad but lost almost all relatives on his father's side in the Holocaust, is angered and determined to set her right about the “Obskurantismus stümperhafter faschistischer Theoretiker” (187). When his efforts fail, he decides to resume the political lesson after “dem, was meiner Vorstellung nach unbedingt passieren musste” (187). Here, sexual violence, fascist ideology, and anger at the arrogance of the “Herrenrasse” (18) are intertwined in a most problematic way. Gelfand astutely withholds narrative closure. We do not know whether that which “unbedingt passieren musste” did, in fact, happen, though we may assume that he did not succeed in convincing his fascist guest/victim of the error of her racist ways. What we do know, however, is that any simple binary of victim and perpetrator fails to capture all facets of Gelfand's ill-fated seduction/rape.
Although Gelfand repeatedly calls for revenge, he does not portray rape as a form of just retribution. The revenge Gelfand has in mind relates to death in battle, pillage, and plunder. In contrast, in Prussian Nights, composed in the Gulag in the 1950s but not published until 1974, Alexander Solzhenitsyn both summons and critiques the assumption that the rape of German women is an adequate response to German crimes in Russia. In Prussian Nights, he introduces a narrative voice in the plural, the collective “we” of the advancing Red Army. In the eyes of this “we,” Germany is a feminine fiend, a “foul witch” (3), whose excessive riches make the invasion of Russia even more incomprehensible. The “we” of Solzhenitsyn's epic poem contrasts with an “I,” who, at least initially, refuses to participate in the orgy of destruction, but who is also unwilling to stop it. The “I” expresses both empathy for the Russian soldiers who burn and kill mercilessly (“we have ourselves to save” [7]) and shock at the crimes they commit. This shock, however, never translates into a willingness to put a halt to the violence: “I'll be off / Like Pilate when he washed his hands […] Between us many a cross there stands/Of whitened Russian bones” (19).
The unwillingness to intervene on behalf of the German enemy is particularly pronounced when the “I” is confronted with the victims of rape:
The mother's wounded, still alive.
The little daughter's on the mattress,
Dead. How many have been on it?
A platoon, a company perhaps?
A girl's been turned into a woman,
A woman turned into a corpse.
It's all come down to simple phrases:
Do not forget! Do not forgive!
Blood for blood! A tooth for a tooth!
The mother begs, “Töte mich, Soldat!”
Her eyes are hazy and bloodshot.
The dark's upon her. She can't see.
Am I one of theirs? Or whose? … (37–39)
Here, the sight of rape prompts the “I” to question his loyalties. The line, “Am I one of theirs? Or whose?” refers literally to the blindness of the mother, who does not know whether she is dealing with a Russian or German soldier. But it also signals an uncertainty about the moral obligations demanded of the “I” in light of the crimes he witnesses. Still, although the “I” experiences a conflict, he remains passive when he is again confronted with rape, in this case the rape of a Polish woman
“I'm not German! I'm not German!
No! I'm—Polish! I'm a Pole! …”
Grabbing what comes handy, those
Like-minded lads get in and start—
“And, oh, what heart
Could well oppose?” … (51)
Although this rape victim is not a member of the perpetrator nation, the “I” remains impassive. In contrast, the next scene that includes a threat of rape features the racial arrogance attributed to German women. The narrator describes a proud German woman, the fiancée of a member of the SS and the very image of the blond Aryan, who “looked a little askance at the Untermenschen” (81):
… And then we see
One, blond and magnificent,
Stride erect and quite unshyly
Along the path beside the highway,
Keeping her proud heart unbent […]
Sergeant Baturin, flower of crime,
Ex-convict who had served his time
In labor camp on the Amur
Strode unspeaking up to her. (77–85)
The blond German escapes the threat of rape, only to be shot when the Russian soldiers discover a letter from her SS-fiancé. Again, the “I” is conflicted about his complicity in a crime that he could have prevented with a mere wave of the hand. What stops him is the memory of how one of the soldiers who shoots the German girl “found the graves of his family,” who had been murdered by German soldiers (87). The “I” is resigned to inaction because he knows that “history, like trauma, is never simply one's own, that history is precisely the way we are implicated in each other's trauma” (Caruth 24). Confronted with crimes on both sides, the “I” wonders: “Who knows who's guilty? Who can tell?” (87).10
While Solzhenitsyn depicts a narrating “I” who is paralyzed by the moral complexities of war, Lev Kopelev, in his memoir, To Be Preserved Forever (1976), describes not only his attempts to prevent rape, but also the consequences that result from it. Because he intervenes on behalf of Germans, Kopelev is charged with “anti-Soviet agitation and propaganda” (9), as well as “bourgeois humanism” and “pity for the enemy” (10). His loyalty to the party is questioned, and he is sentenced to spend ten years of his life in Stalin's labor camps.
Although rape plays a prominent role in the memoir, Kopelev never describes the act of rape, but tends to represent it through metonymy, by portraying the weapons used and the wounds that result from it. Upon entering the city of Neidenburg, for example, the author comes across a victim of rape: “On a side street, by a garden fence, lay a dead old woman. Her dress was ripped; a telephone receiver reposed between her scrawny thighs. They had apparently tried to ram it into her vagina” (39). Later, Kopelev again conveys the trauma of rape through references to the victim's wounds and the guilty expression of the perpetrator: “The palms of her hands were scratched and bloody. Belyaev bustled about, avoiding looking at me” (49). Shortly thereafter, he describes a girl with “blond pigtails, a tear-stained face and blood on her stockings” (54). The focus on the visible signs of rape turns our gaze away from the perpetrator and his motivations, and toward the suffering of the victim. Kopelev does not engage in a discussion of the possible justifications of such crimes. Rather, he insists that undiscriminating violence comes back to haunt the perpetrators: “Senseless destruction does more damage to us than to them” (38).
Unlike Gelfand's diary, where consent and coercion are confused, and unlike Solzhenitsyn's poem, which highlights a moral dilemma, To Be Preserved Forever displays a moral clarity that made Kopelev an outsider in his own nation. To be sure, there is a certain unfairness in the attempt to compare these three texts. Due to his early death, Gelfand never had the opportunity to transform his text into a work of art or to revise it in light of postwar discourses. Deutschland Tagebuch is a compilation of letters and notes, not a carefully crafted poem or memoir. And yet, such a comparison is not only necessary in light of the absence of literary texts on the subject of wartime rape, but also highly instructive. In addition to illustrating the impossibility of consent in the struggle for survival in the postwar period, Gelfand directly juxtaposes rape and racism. While Gelfand does not reflect on this juxtaposition, Solzhenitsyn not only develops its ethical complexity, but also points to a danger: as long as the conflicted narrator seeks to do justice to both sides, the suffering of the victims and the motivations of the rapists, he remains condemned to inaction. In his memoir, finally, Kopelev refuses to engage in a discussion of the motivations that lead to rape and thus allows for a moral clarity that facilitates his admirable intervention on behalf of the victims. The question then is: how to read a similar absence of references to the rationale of the perpetrators and to German racism and atrocities in the memoirs of German rape victims?
While Gelfand runs the risk of erasing rape in his diary by substituting consent for coercion, the memoirs of German rape victims often feature rape as a narrative lacuna.11 Like their mythical ancestor Philomela, rape victims are silenced by their experience, but this silence takes many different forms. We know that, in some cases, it was all-encompassing. In his memoir, Das Häuten der Zwiebel, Günter Grass reports, “mehrmals erlittene Gewalt hatte die Mutter verstummen lassen” (271). Interestingly, Grass replicates his mother's silence by referring to non-specific “Gewalt,” rather than calling rape by its name. In many other cases, though, rape victims wish to talk about their traumatic experience, but shy away from describing the act of rape: “Ich habe immer wieder ‘darüber’ gesprochen, allerdings nie über den Akt an sich, das war unaussprechlich” (Jacobs 47). Most memoirs of wartime rape victims do not contain elaborate descriptions of the violence inflicted on their bodies. They tend to offer little context and to avoid metaphors. Instead of detailed accounts, readers find generic references such as “es geschah, was geschehen musste” (Böddeker 140). The anonymous author of the memoir, Eine Frau in Berlin, offers a number of details regarding the rape, but she also deploys a whole arsenal of periphrastic formulations, including: “es mehrfach aushalten müssen” (69), “dran glauben müssen” (134), “es abbekommen” or “abkriegen,” and “es hat sie erwischt” (140–49). At times, she uses hyphens or ellipses for the act of rape (57, 62, 178; see Bletzer 701 and Prager 72–73). Similarly, Gabi Köpp, the author of the memoir, Warum war ich bloß ein Mädchen, employs the phrase, “Wieder gibt es … kein Erbarmen” (93).
Indirect expressions also characterize the description of rape in interviews. For example, the women who spoke with Helke Sander employed terms such as “geopfert,” “überfallen” (88), “herausgeholt” (92), or “sich einlassen müssen” (94). The women who were interviewed by Jacobs often referred to the rape as being fetched (“geholt”) or taken (“genommen”) by Russians (22). It is likely that the reluctance to verbalize the bodily experience of rape is rooted in the shame and trauma associated with this particular form of violence. The fact that these women want to talk about rape, but address it primarily through circumlocution, suggests that they do not perceive full verbalization as helpful to their healing process. In addition to these personal considerations, the political implications of wartime rape also reduced the desire of rape victims to narrate their experience. For example, Köpp's hope that her memoir would be published in “einer Zeit, in der den zivilen Opfern des Kriegsendes nicht mehr das Unrecht angetan wird, sie zu Tätern zu stempeln” (12), implies that the author is acutely aware of the controversial nature of German discourse of victimhood.
In her memoir, Warum war ich bloß ein Mädchen? Das Trauma einer Flucht 1945, published sixty-five years after the war in 2010, Köpp relates her experiences on the trek West from Schneidemühl, West Prussia. Köpp fled together with her sister, but without her mother, who sent the girls ahead because she believed that an early escape was safer. Unfortunately, this was not case, and Köpp was raped multiple times. When the young Köpp tried to talk to her mother about her experiences, the latter refused to listen, but encouraged her to write about it. Köpp initially followed her mother's advice, but stopped writing when the process of remembering brought on recurring nightmares. Overwhelmed, Köpp locked her notes away in a safe and did not touch them for several decades.
Interestingly, the event that prompted her to open the safe and resume writing was the sixtieth anniversary of the liberation of Auschwitz, 27 January 2005. Thus, in Köpp's memoir, the Holocaust is not only a frame of reference, but a point of origin. Köpp looks at her notes because she wants to know what she had reported in her diary on the date of the anniversary. As it turns out, 27 January 1945 is the darkest day of Köpp's life, the day when she was raped multiple times. Clearly, even though Köpp's personal story stands in stark contrast to the history of Europe's persecuted Jews, Köpp constructs it in parallel to their suffering. When Köpp boards a westbound train on 26 January 1945, she notices showerheads and a sign reading: “Entlausungswagen.” Köpp relates that she was unaware of the Holocaust at the time and did not link this experience to the mass murder of Jews until years later. Still, her description of her journey on the train cannot but evoke Holocaust imagery: officials bolt the doors, and the passengers are trapped when the train is bombed. Because Köpp does not develop these parallels, it is unclear whether she intends to compare her trauma to that of Jewish victims or whether the juxtaposition is circumstantial. What is clear, however, is that, in their conception and composition, narratives of the wartime rape of German women are inextricably linked to the German crimes that preceded them and that this link is often presented as a form of shared suffering rather than as a chain of cause and effect.
In Köpp's story, the rape is present as an omission. There are, however, descriptions of the selection process. In particular, Köpp cites the imperative, “Frau, komm,” with which Russian soldiers designated their specific victims. She also describes various attempts to hide from the Russians, to duck behind others, to crouch under tables, or to pretend to have a contagious illness. And, of course, Köpp details threats and acts of violence against German rape victims. The rape itself, however, is unmentionable to the point that, several times in Köpp's memoir, the reader does not know whether she was raped or whether she resisted successfully. Instead of a description of the rape, Köpp offers confirmation of the crime through references to tattered clothes and through italicized citations from the original diary that speak to her desolate emotional condition: “Mir ist schon bald alles egal. Wenn doch irgendwie Schluss wäre” (70).
In Köpp's memoir, rape and the threats of violence associated with it are by far the most traumatizing experiences. In spite of its overwhelming impact on victims, however, rape is not an isolated trauma, but occurs in a general atmosphere of loss, betrayal, and deprivation. Several times, Köpp teams up with a companion who is killed shortly thereafter. Köpp also relates how she is repeatedly victimized by other women. From the start, her relation to her mother is deeply troubled. Köpp not only feels rebuffed by a mother who does not want to hear about the violence inflicted on her daughter. She also feels abandoned because her mother left her two daughters to fend for themselves: “In gewisser Weise liess sie mich ins offene Messer laufen” (18). We know from similar accounts that Köpp's accusations are well-founded. The fact that she lacked the protection of a parent made Köpp an easy victim, not because her parents could have stopped the Russians, but because her isolation made her a convenient scapegoat when other mothers sought to protect themselves and their own daughters. Thus, when Russian soldiers threatened to shoot everybody if no girls would come forward, one of the women in the shelter promptly dragged the young Köpp out from underneath the table where she was hiding: “Aus eiskaltem Egoismus lieferten sie durch ihren Verrat ein fünfzehnjähriges Mädchen ans Messer. Im vollen Wissen, was sie mir antaten” (79). The ethical and emotional challenges of the time are brought home when we learn later that the woman who betrayed Köpp becomes her closest friend in the group.
Throughout, Köpp interweaves citations from her original diary entries into her narrative. These citations are visually marked through italicization and form part of a dialogue between Köpp, the fifteen-year old diarist, and Köpp, the eighty-year old professor of physics. Since the italicization marks these citations as foreign bodies in the text, readers expect an interplay of immediate experience and retrospective insights. And yet, much that is reported is left uncommented. For example, Köpp relates that the Russians justify their actions with references to German atrocities in their homeland. She continues by stating that she did not believe them because she thought of her father, whom she deemed incapable of such atrocities. No comment from the older Köpp follows to contextualize or relativize this account. Similarly, although Köpp avoids generalizations about Russian soldiers (see Beck-Heppner 141), her descriptions of the Russian rapists, whom she calls “Unmensch[en]” (53) and “Bestien” (74), cannot but echo Nazi jargon, such as the phrase, “bestialische Untermenschen” (Grossman, “Eine Frage” 19).12 To ask for political correctness from someone so brutally victimized is a tall order. And yet, it is references such as these that have contributed to a silence about the suffering of German rape victims. Because the Nazis had painted the Russians as subhuman beasts, any experiences of German women that appear to confirm these racist stereotypes cannot be integrated into leftist discourses. Here, the call to take full responsibility for the crimes committed by Germans translates into a moral imperative to remain silent about the suffering inflicted on German women.
The absence of retrospective contextualizations and explanations leaves readers in an uncomfortable position. In light of what Köpp experienced, it is hardly surprising that she wonders, “Sind das denn noch Menschen?” (64). No reader of Köpp's memoir will fail to be moved by the enormous suffering and the brutality inflicted on the fifteen-year old girl. At the same time, readers are likely to be troubled not only by the absence of acknowledgments of German culpability but also by a discomfort with their own discomfort. After all, the reader's concern with a politically balanced account is afforded by what Tanner calls “the gap between intellectual relativity and physical absoluteness” (xi). Readers can afford to be detached because, unlike the memoirist, they have not experienced the trauma of wartime rape. (To this day, Köpp is plagued by PTSD.) If readers are reluctant to engage in a political critique, it is because their “freedom parallels the autonomy of the violator” (Tanner 10). But before we as readers succumb to silence, we might do well to remember Philomela's story in its entirety. In this myth, the mute victim overcomes the silence imposed on her by weaving a tapestry that depicts her rape. And, as we know, the Latin verb for “weave” is textere. However, it is often forgotten that Philomela's creation serves to incite further violence. Philomela gives her tapestry to her sister Procne, who is married to the rapist, Tereus. Responding to this message, Procne kills their son, Itys. Importantly, the second victim here is not the perpetrator, but an innocent child. The perpetuation of violence in Philomela's story suggests that we should take great care when reading stories of rape. We should not hesitate to critique the ideological blind spots that inform the accounts of victims even if, in formulating such a critique, we are liable to reinhabit the position of the violator.
Rape is not only a crime, but also a powerful trope that lends itself to political appropriation. Indeed, in cases of wartime rape, the translation of sexual into national politics is seamless. In countless myths and stories, the rape of a woman stands metonymically for the conquest of a nation, so that woman's supposed vulnerability is made to signify a weakness in the body politic. Where women are raped, the husbands and fathers who failed to protect them are stripped of their authority and power. As the author of Eine Frau in Berlin explains: “Am Ende dieses Krieges steht neben vielen anderen Niederlagen auch die Niederlage der Männer als Geschlecht” (51).
The Nazis were acutely aware of this link and skillfully used it to further their political agenda. Hitler himself repeatedly invoked the specter of rape to encourage fierce resistance: “Ihr Soldaten aus dem Osten wisst zu einem hohen Teil heute bereits selbst, welches Schicksal vor allem den deutschen Frauen, Mädchen und Kindern droht. Während die alten Männer und Kinder ermordet werden, werden Frauen und Mädchen zu Kasernenhuren erniedrigt” (Mühlhauser 366). Such rhetoric reached its climax when the Nazis elevated the atrocities of Nemmersdorf, the first ethnically German village taken by Russian soldiers, into a massacre of mythic proportions. In Günter Grass's Im Krebsgang, Nemmersdorf is a code word that evokes the National Socialist instrumentalization of German suffering for the purpose of propaganda.
The politicization of rape narratives did not end with the Nazis, but extends into the present. Ingo Münch's book about the mass rapes is a case in point. Münch, a politician and professor emeritus of constitutional and international law, uses the plight of German women to highlight the immensity of German suffering. Because other national narratives fail in the context of the German crimes and defeat, Münch refers to the rapes to illustrate German victimization. In Münch's “pseudoscience of comparative victimology” (Naimark 7), the suffering of German women is called “beispiellos”: “nie zuvor sind in einem einzigen Land und innerhalb eines so kurzen Zeitraums so viele Frauen und Mädchen von fremden Soldaten missbraucht worden wie 1944/45 nach dem Einmarsch der Roten Armee in Deutschland” (Münch 15). Münch's desire to claim first rank in a competition of victims is highly problematic for a number of reasons. First, Münch's assertion that the German rapes are unique is based on his problematic reliance on statistics that remain “colored, to the last, by Goebbels's pen” (Merridale 318). After all, as the author of Eine Frau in Berlin reminds us, who was keeping count? Second, wartime rape occurred in numerous cultures throughout history. During the last two decades, the rape of Muslim women in Bosnia-Herzegovina was widely discussed in Western media, but this too is not an isolated atrocity. Rather, rape and warfare frequently go hand in hand. There were mass rapes in Pakistan, Guatemala, Nanking, Bosnia, Rwanda, Indonesia, Congo, Peru, Liberia, Haiti, Sudan, Myanmar, El Salvador, East Timor, Kuwait, Cambodia, Vietnam, Bangladesh, Afghanistan, Algeria, Somalia, and Sierra Leone (Frederick 2–3). Rapes were part of almost every major military conflict, including the Thirty-Years’ War, the First and Second World Wars,13 the Vietnam War, and the Persian Gulf War (Morris 656), though they varied in scope and nature. Wartime rape may be chaotic or systematic, even strategic (Barstow 2). Some armies institute rape camps and impregnation policies. Sometimes, the victims are forcibly abducted and kept in sexual slavery, as were the comfort women of the Japanese army during the Second World War. Other theaters of war involved rape-and-kill practices and forced incest. Of course, the number of victims is crucially important, but so is the suffering of every individual woman. Finally, it should not surprise us that Münch does not dwell on the fact that German women were not the only victims. And yet, we know that forced laborers from Ukraine and Poland, as well as Jewish survivors, were victimized along with German women.
In addition to his specious assertion of German women's exceptional suffering, Münch relies on a problematic dichotomy of victim and perpetrator. In Münch's version of events, victim and perpetrator are mutually exclusive and highly gendered categories. By definition, women and girls are innocent victims who did not participate in Nazi crimes (26). Münch denies women political agency, and in so doing, he establishes the victimization of Germans:14 “das Volk der Täter […] Wer diese unzählig oft gebrauchte Formel—inzwischen schon ein Stereotyp—für angemessen und richtig hält, kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es neben den Tätern eben auch Opfer gab” (26). As Heinemann has shown, this is a discursive maneuver that emerged in the immediate postwar period: “First were memories of female victimhood during the latter part of the war which were generalized into stories of German victimhood” (“The Hour” 355). Because “women's narratives emphasize their sufferings and losses and downplay their contributions to and rewards from the Nazi regime” (“The Hour” 359), they are easily appropriated in the formation of a national identity.15 As Heinemann points out, such appropriations have traditionally not served women well: “as rape became a powerful metaphor for German victimization, the government declined to recognize real rape by the enemy or occupier as a form of wartime injury deserving compensation” (“The Hour” 372).
Furthermore, Münch maintains that the rape of German women cannot be interpreted as retaliation for the rape of Russian women, since German soldiers did not rape. He argues that German soldiers felt no desire for revenge—after all, their homeland had not been attacked—and thus behaved in a more civilized manner. Finally, Münch, drawing on the trope of the romance of conquest, asserts that German soldiers did not need to rape, because Russian women were drawn to them: “Allerdings waren nicht alle sexuellen Beziehungen zugleich sexuelle Gewalttaten” (29). As recent research has shown, Münch's assertion that German soldiers did not rape is simply wrong. Mühlhäuser offers detailed evidence that “sexuelle Gewaltverbrechen keine Ausnahme waren: Deutsche Truppenangehörige zwangen Frauen (und Männer), sich zu entkleiden, unterwarfen sie sexueller Folter und verübten Vergewaltigung, als Einzeltäter oder in der Gruppe” (Eroberungen 367). She also reminds us that, wherever starvation is a clear and present threat, consensual sex and prostitution are all but indistinguishable.
Whereas Münch claims that German women, whom he lumps together with children, are collectively innocent, many Russian soldiers were convinced of the opposite. Naimark reminds us that Soviet newspapers portrayed German women as eager Nazis (108). The often-quoted Russian slogan, “Break the racial arrogance of Germanic women with force,” implies the culpability of German women and their support for Nazi ideology, which Münch denies. Moreover, Münch's focus on retaliatory rape obscures the fact that the revenge that Russian soldiers sought was not necessarily revenge for rape, but for other, non-sexual crimes. After all, 27 million citizens of the Soviet Union lost their lives in this war, two thirds of whom were civilians. As the historian Atina Grossman points out, the image that Russian soldiers evoked in their quest for revenge is not that of a German raping a Russian woman, but that of a German soldier dashing a baby's head against a wall (“Eine Frage” 20, see also Anonyma 146).
While Münch's revisionist account hypertrophizes rape and denies women agency, Grossman has presented important work that highlights the racism and culpability of German women. Grossman rightly points out that the figure of the Russian rapist reinforced German women's “preexisting convictions of cultural superiority” (Jews 52), but she tends to downplay the suffering of the victims. Although she grants that, in some cases, rape may have been experienced as the worst of many horrible deprivations (Jews 52), she also assumes that, because rape had become routine, its sting was not felt as acutely. According to Grossman, women commented on the rapes with “unsentimental directness.” She attributes this “sangfroid” to a “self-preserving sexual cynicism” that originated in “the modernist Sachlichkeit of Weimar culture and […] the loosened mores of the Nazis’ war” (Jews 54).
To be sure, Grossman's point that German racism did not end with the war is well taken. In fact, such racism is plainly visible in the government directives that promoted abortion if a woman was raped by a Russian, but forbade it if the rapist was American (Schmidt-Harzbach 61). Moreover, she correctly points out that rape victims are not immune to such racism. As Mardorossian has shown, “there is no guarantee that being raped makes an individual more sensitive to the workings of the discursive context through which experience is given meaning. Victims are as likely to reproduce rape ‘myths’ as other members of society” (769). Second, Grossman does well to remind us that rape was one of many traumatizing experiences, but it does not follow that multiple sufferings reduce the weight of each individual trauma. In fact, a recent study by Eichhorn and Kuwert suggests that the trauma of rape was felt more acutely than other forms of brutalization and loss. According to Eichhorn and Kuwert, 74% of the female interviewees who had experienced multiple forms of traumatization during the war list rape as the most traumatic experience (72). More importantly, though, in quantitatively comparing the trauma of rape, one runs the risk of missing the most crucial point: rape accounts do not present a uniform picture, but are riddled with unevenness and inconsistencies. Grossman insightfully claims that Eine Frau in Berlin contains passages that are marked by unsentimental directness, but she fails to mention that, alongside these matter-of-fact passages, its author also reports pervasive depression (90), vomiting after the rape (74), feeling disgusted with her own skin (70), and being dead to all feelings (76). Similarly, texts by Margret Boveri and Ruth Andreas-Friedrich contain matter-of-fact references to rape, but they also report numerous suicides (Andreas-Friedrich 23; Boveri 109, 181) and the intense suffering of rape victims (Andreas-Friedrich 176; Boveri 84, 89, 172, 179).
While Grossman's research is largely based on written accounts, the German historian Regina Mühlhäuser draws on interviews with rape survivors. Based on the interviews she conducted between 1995 and 1999, Mühlhäuser concludes that the laconic acceptance of rape that Grossman perceives was not evident in any of these interviews (“Vergewaltigungen” 390). Interestingly, though, she then suggests that the original experience of rape did not necessarily induce feelings of shame.16 According to Mühlhäuser, the feelings of desperation and shame expressed in the interviews are a later ingredient, added because of the discursive exigencies of the postwar period (“Vergewaltigungen” 390). Again, it is undoubtedly true that memories of rape, like all memories, are shaped by dominant discourses and that such discourses may exacerbate or ameliorate the primary trauma. But to conclude from this premise that there was no desperation and shame involved in the experience of rape is questionable. The fact that the effects of trauma change over time and may even intensify with age does not imply that the initial trauma did not cause suffering (Kuwert and Eichhorn, 36).
It should be clear by now that the stories of rape victims are ethically challenging. On the one hand, there is a danger in privileging decontextualized private accounts of rape victims. If we listen to these accounts exclusively, we may indeed “exchange history for emotion” (Cohen-Pfister 327). On the other hand, there is also a price to be paid if we exclude these stories from the canon. The literature of war abounds with descriptions of the trauma of the front, of the physical and psychological wounds of war. As Ann Cahill points out, “as a society, we laud war heroes, listen intently to their suffering (and the sufferings they imposed on others). We do not wish to hear the sufferings of rape victims” (120). And yet, if we are to understand the repercussions of war, then it is vital that every form of wartime victimization enter the official record and form part of our concepts and imaginations of war. Thus, we should read Philomela's story even if we reject her legacy that entails the perpetuation of violence in the second generation, not least because such stories teach us to question pat dichotomies of victims and perpetrators and of silence and discourse. And as we recognize the dangerous legacy of Philomela's story, we may also remember another rape victim in classic mythology who did not write her story: the beautiful maiden Medusa, who was raped by Poseidon in Athena's temple and then turned into a monster by the goddess, who was enraged over the defilation of her sacred space. Clearly, there is a legacy of violence in both silence and in writing, but there is also an ethics of reading that allows one to pay tribute to the victims’ suffering even as one negotiates and recontextualizes their stories.

© 2015, American Association of Teachers of German
German Quarterly
Том 88, выпуск 1, страницы 82–103, зима 2015 года
Редактор: Роберт Э. Нортон
Online-ISSN: 1756-1183
Abstract
В данной статье рассматриваются этические затруднения, связанные с военными изнасилованиями немецких женщин солдатами Красной армии в последние месяцы Второй мировой войны. В частности, я анализирую несколько проблем, возникающих при прочтении рассказов об изнасилованиях: опасность отождествления виктимизации женщин с виктимизацией немецкой нации; риск банализации или преуменьшения страданий жертв изнасилований; а также сложность написания о таких событиях без воспроизведения нацистских нарративов.
Изнасилование, как утверждает Сабина Зильке, является «плотной точкой передачи для отношений власти». Мой анализ показывает, что, когда рассказы об изнасилованиях во время войны используются для идеологических целей — а это почти неизбежно, — опыт жертв, их травмы и боль рискуют исчезнуть в шуме оправданий, метафор и политических интерпретаций. Опираясь на миф о соловье, я утверждаю, что наследие насилия сохраняется как в молчании, так и в письме, и что существует этика чтения, позволяющая отдать должное страданиям жертв даже в процессе переосмысления и переконтекстуализации их рассказов.
«И что глубокую пытку можно назвать яркой,
Коль ощущается сильнее, чем словами передать возможно.»
— Шекспир, «Похищение Лукреции»
За последние два десятилетия немецкий книжный рынок был наводнен публикациями, акцентирующими внимание на страданиях немцев в результате Второй мировой войны. Билл Нивен утверждает, что интерес к немецким страданиям «приобрел навязчивый характер» (8), тогда как Анне Фукс отмечает, что такие работы часто воспринимаются как «триумфальное восстановление неофициальной частной памяти нацистского периода» (7). Однако повышенное внимание к этим темам не устранило их противоречивую природу. В особенности рассказы об изнасилованиях немецких женщин русскими солдатами остаются этическими минами. Рассказанные с точки зрения преступников, они превращают насилие в согласие; рассказанные с точки зрения жертв, они рискуют воспроизвести нацистские нарративы о «русских зверях», «польских убийцах» и «немецких спасителях».
В дальнейшем я сосредоточусь на изображении массовых изнасилований немецких женщин в финальный период войны, когда Красная армия продвигалась на запад. В то время как исследователи уделяли основное внимание фильмам — особенно спорной работе Хельке Сандер Befreier und Befreite — или ограниченному корпусу текстов, например «Женщина в Берлине», я предлагаю подробный анализ литературных текстов и мемуаров, которые ранее почти не привлекали критического внимания. Более того, в отличие от предыдущих исследований, я сопоставляю русские и немецкие источники, поскольку считаю, что двунациональная перспектива наилучшим образом позволяет раскрыть этическую сложность и внутренние противоречия этих рассказов.
Как я покажу, рассказы о военных изнасилованиях не укладываются в классические категории военной литературы. Не существует устоявшегося дискурса, который бы адекватно выражал суть этих событий (см. Rogoff 265; Dalke 212). Эти рассказы подрывают существующие структуры власти, бросают вызов традиционным представлениям о виктимизации и субъективности, о молчании и дискурсе, они внутренне противоречивы и неразрывно связаны с телесностью.
Изнасилование, как подчеркивает Сабина Зильке, — «плотная точка передачи для отношений власти» (2). Когда рассказы о военных изнасилованиях используются в идеологических целях, страдания и травмы жертв рискуют быть поглощёнными оправданиями, метафорами и политическими конструктами.
Мой анализ литературных текстов и воспоминаний жертв показывает, что в основе этих рассказов лежит неустранимая дилемма. Изнасилование, преступление, тесно связанное со стыдом, часто описывается в эвфемистическом или фрагментарном языке и редко выражается полноценно. Таким образом, рассказы об изнасилованиях часто застревают между молчанием и речью. Хотя многие жертвы воспринимают публичное признание своих травм как терапевтическое, сложные и подробные рассказы об изнасиловании не всегда способствуют процессу исцеления. Это частичное молчание призвано предотвратить повторное переживание травмы и способствует существованию насилия в общественном дискурсе в завуалированном виде.
Чтобы прояснить нарративную и этическую сложность рассказов о насилии, я в первой части статьи представлю исторический контекст и теоретические основы своего анализа. Во второй части я рассмотрю тему «согласованного изнасилования» в «Дневнике Германии 1945–1946» красноармейца Владимира Гельфанда и сопоставлю его восприятие сексуального насилия с изображениями в «Прусских ночах» Александра Солженицына (1974) и мемуарах Льва Копелева «И сохранится навеки» (1976). В третьем разделе я сосредоточусь на воспоминаниях немецких жертв изнасилования, в частности на книге Габи Кепп «Почему я была просто девушкой», показывая, как травма и стыд мешают нарративной артикуляции пережитого. В заключение я рассмотрю политическую эксплуатацию темы изнасилований в историческом исследовании Инго Мюнха Frauen kommen! о массовых изнасилованиях немецких женщин и девочек в 1944–1945 годах, а также тенденцию преуменьшать страдания жертв в ряде работ современных историков-женщин.
Во всех этих рассказах изнасилование часто замалчивается, отрицается или нивелируется — либо из-за чувства стыда, сопровождающего опыт, либо в силу политических целей авторов. Таким образом, изнасилование становится невидимым даже там, где оно, казалось бы, должно находиться в центре повествования о военном насилии.
I. Изнасилование и Представление
Доподлинно известно, что солдаты Красной армии изнасиловали сотни тысяч немецких женщин. По некоторым оценкам, число жертв достигает двух миллионов (Jacobs 10, 133; Naimark, Sander 5), причём многие женщины подвергались насилию многократно. Насильники не делали различий по возрасту и положению: пощады не знали ни молодые девушки, ни старухи, ни беременные женщины, ни монахини, ни пережившие Холокост. Женщины, отказывавшиеся подчиниться, нередко подвергались жестоким избиениям или были убиты; мужья или родители, пытавшиеся их защитить, также могли быть расстреляны.
Изнасилования происходили как в частных домах, так и в канавах вдоль дорог, часто на глазах у родственников или целых сообществ. Многие женщины не выдерживали пережитого: некоторые умирали от полученных травм, другие совершали самоубийства, третьи заражались венерическими болезнями. Некоторые вступали в так называемые «эксклюзивные отношения» с офицерами, надеясь получить защиту в обмен на сексуальные услуги. Другие пытались спрятаться, притворялись больными или переодевались в мужскую одежду, чтобы скрыть свой пол. В некоторых случаях женщины были преданы другими ради спасения собственной жизни. В результате многих изнасилований женщины беременели от солдат Красной армии.
Формально изнасилование в Красной армии каралось смертной казнью. На практике же большинство преступников оставались безнаказанными.
В отредактированном сборнике Изнасилование и представительство Линн Хиггинс и Бренда Сильвер утверждают, что в повествовании «изнасилование также существует как отсутствие или разрыв, который является одновременно продуктом и источником текстовой тревоги» (3). Это справедливо, но в немецком контексте отсутствие имеет особую специфику.
Во-первых, несмотря на ошеломляющий масштаб преступлений изнасилования, количество повествовательных свидетельств крайне невелико. Во-вторых, когда изнасилование всё же фигурирует в рассказах жертв, оно, как правило, упоминается, но не описывается, вызывается, но не представляется. Таким образом, мы имеем дело не с полным отсутствием, а с частичным молчанием. В-третьих, изнасилование является табуированной темой, но это табу, как показала Лорел Коэн-Пфистер, «неоднократно нарушалось, а затем восстанавливалось» (318).
Рассмотрим пример, приведённый в исследовании Куверта и Айххорна (9): жертва изнасилования времён Второй мировой войны выигрывает приз за эссе о своём травматическом опыте, однако, получая награду, ей настоятельно советуют больше никогда об этом не упоминать (9). Очевидно, простая дихотомия между молчанием и повествованием недостаточна для адекватного описания дискурса об изнасиловании.
В немецком дискурсе табу и позор, сопровождающие все формы изнасилования, усугубляются политически заряжённой природой этих преступлений, поскольку жертвы были гражданами нацистской Германии. До недавнего времени многие левые авторы придерживались морального императива, согласно которому знание о немецких преступлениях против советских граждан требовало молчания о преступлениях против немцев. Любое признание таких преступлений воспринималось как риск релятивизации немецких военных преступлений и Холокоста, а также как «молчаливое одобрение антибольшевистской программы нацистов» (Наймарк, 3). Даже феминистки нередко придерживались этой линии. В своём фундаментальном исследовании Против нашей воли Сьюзан Браунмиллер утверждает, что «существовала заметная разница в отношении и поведении по отношению к женщинам со стороны армий освобождения по сравнению с армиями завоевания и порабощения во Второй мировой войне» (64). Здесь страдания немецких женщин минимизируются ради повествования об освобождении.
Эта тенденция к молчанию достигла апогея в ГДР, где память об изнасилованиях подавлялась, чтобы не запятнать репутацию «советских братьев» (Айххорн и Куверт, 30; Путрус, 121).
На противоположной стороне политического спектра страдания немцев ставятся в центр внимания, тогда как немецкие преступления отступают на второй план. Здесь изнасилование интерпретируется как символ нарушения и унижения всей немецкой нации. Возникает вопрос: как «говорить о страданиях немцев в свете страданий, причинённых немцами другим, и возможно ли это без того, чтобы одновременно не вспоминать миллионы жертв немецких преступлений» (Коэн-Пфистер, 321)?
Не случайно, что классическая жертва изнасилования — соловей — нарушается дважды: сначала её насилуют, затем отрезают ей язык. Однако соловей не замолкает: она ткет гобелен, иллюстрирующий её опыт. Эта история учит нас важному: дискурс об изнасиловании не сводится к молчанию, а представляет собой сложное переплетение стремления выразить себя и различных форм умолчания, подавления и переработки.
Поскольку изнасилование связано с вопросом согласия и, следовательно, с «приматом психологических состояний» (Фергюсон, 99), это преступление не существует без повествования. Следовательно, при анализе рассказов об изнасиловании мы должны учитывать не только «риторику изнасилования» (Зильке, 1) с её многочисленными паузами и моментами замалчивания, но и те формы речи, где изнасилование отделяется от личного страдания и превращается в инструмент идеологии.
Даже среди множества текстов об изнасиловании голос жертвы, который Кэти Карут называет «голосом, который кричит из раны» (3), может оставаться беззвучным. Более того, нам следует быть внимательными к собственному дискомфорту при чтении таких историй, к тревоге, которую вызывают рассказы, разрушающие привычные моральные категории, и к тому факту, что мы, в отличие от мемуариста, можем позволить себе роскошь отстранения, тогда как именно тело жертвы несёт на себе травму.
Как напоминает Таннер, свобода читателя «параллельна автономии нарушителя», поскольку «воображение читателя манипулирует телом жертвы как чисто текстовым объектом, скрывая реальность боли и уязвимости этого тела» (Таннер, 10). Если мы не в состоянии справиться с двойным вызовом таких текстов — признанием как страданий жертв, так и моральных и политических сложностей рассказов — мы рискуем воспроизвести травму или повторить молчание, которое изначально препятствовало представлению об изнасиловании.
II. "Согласованное изнасилование" в дневнике Владимира Гельфанда: Германия 1945–1946
Существует лишь несколько свидетельств, сосредоточенных на немецких жертвах военных изнасилований, и ещё меньше — рассказов, описанных с точки зрения солдата Красной армии. Несмотря на дефицит непосредственных свидетельств, историки пытались объяснить мотивы оргии разрушений и насилия, совершённых советскими солдатами на пути к Берлину.
Многие указывают на роль алкоголя, а также на то, что солдаты были истощены многолетним воздействием насилия и смерти. Другие напоминают о существовании штрафных батальонов, где служили как политические заключённые, так и лица, осуждённые за уголовные преступления. Существенное значение имело также восприятие немецкого богатства: три четверти бойцов Красной армии происходили из деревень и до войны никогда не видели ни электричества, ни поездов (Мерридейл, 14, 21).
Немецкое благосостояние, даже в его разрушенной форме, воспринималось как символ претензий на превосходство и вызывало глубокое чувство социальной и расовой неполноценности. На это накладывалась непрекращающаяся пропаганда: по словам Екатерины Мерридейл, «нет сомнений в том, что насилие было воодушевлено, если не организовано, Москвой» (312).
Политработники усилили пропагандистские усилия: призывы вроде знаменитого выражения Ильи Эренбурга — «Если ты за день не убил хотя бы одного немца, день прошёл зря» (Наймарк, 72) — сопровождались кадрами освобождённых лагерей смерти и обещаниями грабежа. Наконец, красноармейцы остро осознавали своё низкое положение в расовой иерархии нацистов. Лозунг «Разбейте расовое высокомерие германских женщин! Берите их как законные военные трофеи» (Навратиль, 228), приписываемый Эренбургу, отражает это чувство глубокой обиды.
Все эти импульсы слились в взрывоопасную смесь, породившую волны насилия против сотен тысяч женщин.
В воспоминаниях русских ветеранов Второй мировой войны, а также в отчётах НКВД того времени изнасилования практически не упоминаются (Наймарк, 85). Когда российские ветераны всё же говорят о военных изнасилованиях, они часто утверждают, что женщины якобы вступали в половые отношения добровольно. В более или менее откровенных рассказах насилие и принуждение заменяются повествованием о взаимном согласии.
Этот дискурсивный сдвиг хорошо заметен в интервью с ветеранами Красной армии, проведённых немецким режиссёром Хельке Сандер. Один ветеран утверждает, что изнасилований не было вовсе: женщины якобы сами искали близости «по своим собственным потребностям» (119). Похожие утверждения встречаются и в отчётах Ингеборг Якобс: опрошенные ею ветераны уверяли, что немецкие женщины сопротивлялись недолго, а некоторые даже сами поднимали юбки (8).
Такие заявления соответствуют наблюдениям Екатерины Мерридейл о процветавшей в Красной армии женоненавистнической культуре, хотя стоит подчеркнуть, что Красная армия не была единственной, в рядах которой существовали подобные настроения. Солдаты Красной армии также не были единственными участниками массовых изнасилований.
Осенью 1945 года Энтони Бивор приводит рассказ британского журналиста, согласно которому советские солдаты «часто насиловали старушек шестидесяти, семидесяти и даже восьмидесяти лет, к удивлению — если не сказать к удовольствию — этих бабушек» (Бивор, 31). Также известно, что американские солдаты нередко хвастались: «Немецкие солдаты сражались шесть лет, а немецкие женщины — всего пять минут» (Бурк, 373).
Подобное отношение нашло отражение и в немецкой послевоенной прессе. Так, в журнале Der Stern в 1948 году вышла статья с провокационным заголовком «Удалось ли немецкой жене?», в которой подразумевалось, что немецкие женщины якобы сами стремились к участию в преступлениях, совершённых против них, и что изнасилование являлось своего рода моральным поражением и предательством мужей и отцов.
Такой же паттерн — превращение насилия в согласие — характерен для Дневника Германии 1945–1946 Владимира Гельфанда, опубликованного в Германии и Швеции, но не в России. С учётом общей нехватки свидетельств о военных изнасилованиях с точки зрения советских солдат, мемуары Гельфанда являются редким документом. Его происхождение — украинский еврей — придаёт его рассказу дополнительную сложность.
Гельфанд планировал написать роман на основе своих записок, но скончался, не успев осуществить замысел. В своём нынешнем виде Дневник Германии — это подборка писем и дневниковых заметок, основанная на обширном литературном наследии Гельфанда и отредактированная Эльке Шерштяной. Книга предлагает яркие описания повседневной жизни на фронте и в оккупированном Берлине: сражения, партийная работа, киносеансы, любовные увлечения, личные переживания и встречи с немецкими гражданскими.
В большинстве своих заметок Гельфанд, где сексуальное насилие практически отсутствует, предстает скорее ловеласом, чем насильником. Он изображает себя мужчиной, которого преследуют женщины, а не наоборот. И всё же, хотя прямое насилие в его рассказах отсутствует, принуждение всё же имеет место.
Любовные истории Гельфанда наполнены намёками на запугивание, манипуляцию и давление. Он убеждён, что немецкие женщины «ласки не отвергают, как вообще обычно ничего не отвергают» (111). Гельфанд воспринимает себя как благородного джентльмена среди волков, готового защищать девушек в обмен на их благосклонность. Но в тяжёлых послевоенных условиях понятие согласия становится крайне проблематичным.
Гельфанд ясно осознаёт, что защиту и продукты питания можно купить в обмен на сексуальные услуги — и сознательно использует эту возможность. В одном из эпизодов он описывает свою «стратегию»:
Наконец я положил на алтарь для надёжных и доброжелательных отношений продукты, сладости, масло, колбасу и дорогие немецкие сигареты. Уже половины этого было бы достаточно, чтобы обеспечить все права на дочь под безразличным взглядом матери [...] Продукты теперь ценятся выше самой жизни. (157)
В условиях реальной угрозы голода грань между проституцией и изнасилованием становится практически незаметной.
Хотя данный эпизод размывает различие между проституцией и принудительным сексом, в мемуарах Гельфанда встречаются и более тревожные моменты. Любопытно, что там, где рассказ начинается как описание изнасилования, повествование зачастую быстро превращается в историю секса по обоюдному согласию.
Особенно странен эпизод, в котором Гельфанд рассказывает о захвате нескольких женщин из «немецкого женского батальона». В действительности такого батальона не существовало (61); возможно, Гельфанд спутал женщин вспомогательных частей с солдатами, либо просто фантазировал.
Гельфанд объясняет, что захваченных женщин условно разделили на три группы: первую составляли русские, которых немедленно расстреляли как предательниц; вторую — замужние женщины; и третью — девушки. Последнюю группу затем «распределили»:
Для третьей группы, «добычи», были распределены дома и кровати, и над ними несколько дней ставились эксперименты, которые невозможно воспроизвести на бумаге. Немки плакали; младшие не возражали и даже умоляли, чтобы с ними спали, лишь бы избежать надругательства старших солдат. К этой счастливой возрастной группе относился и Андропов. Он выбрал молодую девушку и повёл её спать с собой. Но когда он принялся удовлетворять свою основную потребность, она покачала головой и застенчиво прошептала: {„Это нехорошо, я ещё девочка.“} [...] Она ещё немного сопротивлялась, пока он не выхватил пистолет. Она замолчала, задрожала и стянула с себя гамаши [...]. Он кивнул на пистолет: {„Делай, как надо.“} [...] Так они действовали единодушно и дошли до цели. Он почувствовал, как что-то сломалось; девочка вскрикнула и застонала [...]. Но вскоре заставила себя улыбнуться. Он дал ей гражданское платье, и она вернулась к своим подругам весёлая и беззаботная. (62)
Этот рассказ совершенно
поразителен. То, что начинается как прямое описание изнасилования,
затем превращается в повествование о якобы добровольной близости, где
жертва покидает место преступления «весёлой и беззаботной».
На протяжении всей сцены рассказчик колеблется между откровенным
признанием насилия и акцентом на предполагаемом добровольном участии
жертвы.
Хотя Гельфанд отдаёт себе отчёт в том, что девушки искали молодых
любовников, чтобы избежать надругательства со стороны пожилых солдат,
он всё равно называет их «счастливой возрастной группой».
Точно так же, хотя Гельфанд знает, что девушка, изнасилованная
Андроповым, сопротивлялась до угрозы оружием, он описывает их
взаимодействие как совместное движение к общей цели. Даже описывая
преступление, Гельфанд фактически его стирает.
В рассказах Гельфанда об изнасилованиях присутствует тревожная смесь небрежности и иронии. Тем не менее его дневниковые записи исключительно важны для понимания этических сложностей сексуальных контактов между советскими солдатами и немецкими женщинами.
Обратим внимание, например, на эпизод, в котором Гельфанд приглашает немку в свою комнату. Женщина сначала охотно следует за ним — по крайней мере, так он утверждает, — но затем передумывает и хочет уйти. Однако ситуация, начавшаяся как встреча по обоюдному согласию, перерастает в принуждение: Гельфанд отказывается её отпустить. «Она хотела уйти домой и пыталась меня уговорить. Конечно, я не мог этого допустить, потому что какой бы я был после этого человек» (186).
Наконец, ситуация достигает абсурдной кульминации: женщина, жуя еду, предоставленную Гельфандом, начинает высказываться о евреях: «Она с отвращением говорила о евреях, излагала теорию рас: белая, красная и синяя кровь» (187). Гельфанд, переживший Сталинград и потерявший почти всех родственников по отцовской линии в Холокосте, возмущён её заявлениями и решает просветить свою «гостью», называя её «неуклюжим фашистским теоретиком» (187). Когда переубедить её не удаётся, он замечает, что, мол, «политическую лекцию пришлось бы продолжить после того, что должно было неизбежно произойти» (187).
В этом эпизоде
сексуальное насилие, фашистская идеология и гнев на высокомерие
«расы господ» (18) переплетаются самым проблематичным
образом.
Гельфанд сознательно избегает описания того, что произошло далее: «То, что должно было случиться, безусловно, случилось».
Мы не знаем наверняка, что именно произошло, но можем предположить, что
он не смог переубедить свою гостью, а дальнейшие события оставил за
рамками повествования. Так или иначе, простое деление на жертву и
преступника в данном случае оказывается недостаточным для описания всей
сложности ситуации.
Хотя Гельфанд неоднократно говорит о мести, он не рассматривает изнасилование как форму возмездия. Его понимание мести связано скорее с убийствами в бою, грабежами и разграблением имущества.
В отличие от него, в поэме «Прусские ночи»,
написанной Александром Солженицыным в ГУЛАГе в 1950-х годах и
опубликованной только в 1974 году, одновременно озвучивается и
осуждается идея о том, что изнасилование немецких женщин может быть
оправданием за преступления нацистов в России.
Солженицын использует коллективный голос «мы» наступающей
Красной Армии. В глазах этих солдат Германия — это страна
женского демона, «ведьмы с фолиями» (3), чьё непомерное богатство делает вторжение ещё более абсурдным.
Поэма противопоставляет коллективное «мы» индивидуальному
«я», которое поначалу отказывается участвовать в
разрушении, но не в силах остановить его. Это «я» выражает
сочувствие к русским солдатам, которые сжигают и убивают, чтобы выжить:
«чтобы нам самим спастись» (7), и одновременно испытывает шок от совершаемых преступлений. Однако этот шок не приводит к активным действиям: «Я буду, как Пилат, когда мыл руки [...] Между нами стоит множество крестов над выбеленными костями русских» (19).
Особенно сильной оказывается сцена встречи с жертвами изнасилования:
Мать ранена, но ещё жива.
Маленькая дочь — на матрасе,
Мертва. Сколько их было?
Взвод? Рота?
Девочка превратилась в женщину,
Женщина — в труп.
Всё сводится к простой формуле:
Не забудь! Не прости!
Кровь за кровь! Зуб за зуб!
Мать молится: «Убей меня, солдат!»
Глаза её затуманены кровью.
Тьма перед ней. Она не видит.
Я один из них? Или кто? … (37–39)
Здесь насилие приводит рассказчика к кризису идентичности. Вопрос «Я один из них? Или кто?»
отражает не только буквальную слепоту матери, не способной различить
русского и немецкого солдат, но и внутренний моральный конфликт самого
«я».
Тем не менее, несмотря на внутренний протест, рассказчик остаётся пассивным.
При новой встрече с изнасилованием — на этот раз жертвой становится полька:
«Я не немец! Я не немец!
Нет! Я полька! Я полька!»
Но даже в этом случае рассказчик остаётся безучастным.
Следующая сцена снова поднимает тему изнасилования — теперь уже с
расовым подтекстом. Солдаты сталкиваются с гордой немкой, невестой
офицера СС, символом арийского высокомерия:
...И вот мы видим,
Одну из них — блондинку, великолепную,
Идущую вольно и бесстыдно
По дороге вдоль шоссе,
С высоко поднятой головой...
Сержант Батурин, цветок преступного мира,
Бывший заключённый лагеря на Амуре,
Идёт к ней молча. (77–85)
Эта женщина сначала избегает насилия благодаря письму от жениха-эсэсовца.
Тем не менее, внутренний конфликт рассказчика усиливается: он знает, что мог бы остановить преступление, но не делает этого.
Его пассивность оправдывается воспоминаниями о русских семьях, убитых
немцами. Таким образом, рассказчик принимает своё бездействие как
неизбежное, понимая, что травма войны не знает простой моральной
арифметики: «История, как и травма, никогда не бывает только личной — именно потому история и является травматичной» (Карут 24).
Столкнувшись с преступлениями с обеих сторон, рассказчик задаётся вопросом:
Кто знает, кто виноват?
Кто может сказать? (87)
В то время как Солженицын изображает повествующее «я», парализованное моральными сложностями войны, Лев Копелев в своих мемуарах «Хранить вечно» (1976) не только описывает попытки предотвратить изнасилования, но и показывает последствия своих действий. Поскольку он вмешивался от имени немцев, Копелева обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде» (9), «буржуазном гуманизме» и «жалости к врагу» (10). Его партийная лояльность была поставлена под сомнение, и он был приговорён к десяти годам лагерей.
Хотя изнасилование играет важную роль в мемуарах Копелева, он никогда не описывает сам акт, предпочитая передавать его через метонимию — изображения оружия и ран, оставленных насилием. Вступая в город Нидзица, автор сталкивается с жертвой изнасилования: «На переулке, за забором сада, лежала мёртвая старуха. Её платье было разорвано; между худыми бёдрами торчала телефонная трубка. Видимо, пытались протаранить её ею» (39). Позже он снова передаёт травму через детали: «Ладони её рук были исцарапаны и окровавлены. Беляев суетился, избегая смотреть на меня» (49). В другом эпизоде он описывает девочку с косичками, у которой «заплаканное лицо и кровь на чулках» (54). Смещение акцента с преступников на страдания жертв позволяет Копелеву избежать любых попыток оправдать совершённые преступления. Он настаивает на том, что бессмысленное насилие вредит самим преступникам: «Бессмысленная гибель приносит больше вреда, чем нам с ними» (38).
В отличие от дневника Гельфанда, где границы между согласием и принуждением размыты, и в отличие от стихотворения Солженицына, в котором подчеркивается моральная дилемма, мемуары Копелева демонстрируют моральную ясность, сделавшую его изгоем в собственной стране. Разумеется, есть определённая несправедливость в прямом сравнении этих трёх текстов. Из-за ранней смерти Гельфанд не успел переработать свои записи в полноценное литературное произведение. «Германия. Дневник» — это сборник писем и записей, а не тщательно отработанное художественное произведение. И всё же сравнение оказывается не только необходимым ввиду отсутствия других литературных текстов о военных изнасилованиях, но и поучительным. Гельфанд иллюстрирует невозможность подлинного согласия в условиях борьбы за выживание в послевоенной Германии, непосредственно связывая насилие с расизмом. Хотя он не осмысливает это противопоставление, Солженицын развивает этические сложности этой ситуации и указывает на опасность: пытаясь понять и страдания жертв, и мотивы насильников, рассказчик остаётся парализованным. Копелев, напротив, сознательно избегает дискуссий о мотивах насильников, что позволяет ему сохранить моральную ясность и эффективно вмешиваться в защиту жертв. Встаёт вопрос: как читать мемуары немецких жертв изнасилования, в которых часто отсутствуют упоминания о мотивах преступников, о немецком расизме и военных злодеяниях?
III. Изнасилование как пробел: Нарративные лакуны в мемуарах о военных изнасилованиях
В то время как Гельфанд в своём дневнике рискует замаскировать изнасилование, подменяя его согласием, мемуары немецких жертв изнасилования часто содержат нарративные лакуны. Подобно мифической фигуре Филомелы, жертвы изнасилования замолкают о пережитом, но формы этого молчания различны. Иногда оно было полным. В своих мемуарах «Лущить лук» Гюнтер Грасс сообщает о матери, которая, будучи многократно изнасилованной, замолчала об этом (271). Примечательно, что Грасс сохраняет это молчание, говоря о «насилии» в общем, избегая называть изнасилование прямо.
Во многих других случаях жертвы хотят рассказать о пережитом, но уклоняются от описания самого акта. «Я говорила об этом много раз, но никогда о самом акте, который был невыразим» (Jacobs 47), — признаётся одна из женщин. В большинстве мемуаров жертв нет подробных описаний насилия над их телами. Часто даются лишь намёки или общие упоминания: «это случилось», «то произошло» (Böddeker 140).
Анонимная авторка «Женщины в Берлине» подробно рассказывает о последствиях изнасилований, однако избегает прямых описаний, используя эвфемизмы вроде «надо было терпеть это снова и снова» (69), «раздавили слишком сильно» (134), «получила своё» или «поймали её» (140–149). Иногда она прибегает к дефисам или многоточиям, чтобы заменить описание насилия (57, 62, 178; см. также Bletzer 701 и Prague 72–73). Аналогичным образом Габи Кепп, авторка мемуаров «Почему я была просто девочкой», использует формулировку: «И снова без пощады...» (93).
Таким образом, нарратив о военных изнасилованиях часто представлен косвенно, через молчание, намёки и перифразы. Это молчание, вероятно, связано как с личным стыдом и травмой, так и с осознанием политической напряжённости темы в послевоенной Германии.
Косвенные выражения характерны для описаний изнасилования в интервью. Женщины, беседовавшие с Хельке Сандер, используют термины вроде «вторглись» (88), «увезли» (92) или «вмешались» (94). Женщины, опрошенные Ингеборг Якобс, часто говорят об изнасиловании как о «захвате» или «принятии» русскими (22). Такое избегание подробностей, скорее всего, связано с чувством стыда и травмой, сопровождающими этот вид насилия. То, что женщины хотят говорить об изнасиловании, но делают это через эвфемизмы, указывает на то, что они не воспринимают полную вербализацию опыта как способствующую их исцелению.
Кроме личных причин молчания, значительную роль играют и политические последствия. Например, Надежда Кёпп отмечает, что её мемуары не могли быть опубликованы «в то время, когда гражданские жертвы конца войны ещё считались виновными» (12), что свидетельствует о её остром осознании спорного характера дискурса о немецком страдании.
В своих мемуарах «Почему я была просто девочкой? Травма бегства 1945 года», опубликованных в 2010 году, Кёпп описывает свой опыт бегства на запад из Пиллау в Восточной Пруссии. Она и её сестра бежали без матери, которая отправила их вперёд в надежде, что ранний отход окажется безопаснее. Однако всё обернулось иначе: Кёпп неоднократно подверглась изнасилованию. Попытавшись рассказать об этом матери, она столкнулась с её отказом слушать, но получила совет записать свои переживания. Первоначально Кёпп последовала этому совету, но прекратила записи, поскольку процесс воспоминаний вызывал у неё тяжёлые кошмары. Потрясённая, она заперла дневники в сейф и не прикасалась к ним десятилетиями.
В своих мемуарах Кёпп переплетает цитаты из ранних записей с собственным рассказом. Эти цитаты выделены курсивом и представляют собой диалог между пятнадцатилетней жертвой и восьмидесятилетней профессором физики. Визуальное отделение цитат подчёркивает разрыв между непосредственным опытом и ретроспективной рефлексией. Однако во многих случаях старшая Кёпп оставляет записи без комментариев. Например, она упоминает, что русские оправдывали свои действия местью за немецкие зверства, но не верила им, думая о своём отце, которого считала неспособным на преступления. Старшая Кёпп никак не контекстуализирует это суждение.
Хотя Кёпп избегает обобщений о русских солдатах (см. Beck-Heppner 141), её описание насильников как «чудовищ» (53) и «зверей» (74) неизбежно перекликается с нацистской риторикой, например с выражением «звериные унтерменши» (Гроссман, «Один вопрос», 19). Ожидать политкорректности от человека, пережившего столь жестокую травму, было бы несправедливо. Однако именно такие выражения сделали последующее молчание о страданиях немецких женщин почти неизбежным: любое свидетельство о насилии над ними могло восприниматься как подтверждение расистских стереотипов.
Отсутствие ретроспективной интерпретации оставляет читателя в неловком положении. С одной стороны, невозможно не сочувствовать пятнадцатилетней девочке, пережившей жестокое насилие. С другой стороны, вызывает тревогу отсутствие упоминаний о немецких преступлениях, что заставляет читателя столкнуться со своим собственным дискомфортом. Как отмечает Таннер, забота о политически сбалансированном изложении свидетельствует о «разрыве между относительностью мышления и абсолютностью физического страдания» (XI). Читатели могут позволить себе дистанцию, потому что, в отличие от мемуариста, они не испытали эту травму. При этом, даже если Кёпп и по сей день страдает от посттравматического расстройства, читатели сохраняют свободу, параллельную автономии нарушителя (Таннер 10).
Прежде чем позволить этому дискомфорту заставить нас замолчать, стоит вспомнить миф о соловье. Немая жертва насилия переплетает гобелен, изображающий своё изнасилование. Латинское слово textere («плести») подчёркивает связь между текстом и насилием. Однако создание гобелена не прекращает цикл насилия: сестра соловья, Прокна, убивает сына насильника. Таким образом, история напоминает: чтение свидетельств требует осторожности. Мы обязаны критически относиться к идеологическим слепым пятнам в рассказах жертв, даже если это требует риска ошибочно быть обвинёнными в оправдании преступников.
IV. Политизация темы изнасилования: Инго Мюнх
Политизация рассказов о насилии не ограничивается эпохой нацизма — она продолжается и сегодня. Книга Инго Мюнха о массовых изнасилованиях — яркий тому пример. Мюнх, политик и почётный профессор права, использует страдания немецких женщин для того, чтобы подчеркнуть масштабы немецких потерь. Поскольку другие нарративы концентрируются на преступлениях Германии, Мюнх рассматривает изнасилование как иллюстрацию немецкой виктимизации.
В своей «лженауке сравнительной виктимологии» (Наймарк 7) он утверждает, что страдания немецких женщин были беспрецедентными: «Никогда прежде так много женщин и девочек не подвергались насилию со стороны иностранных солдат в одной стране и за столь короткое время, как в 1944–45 годах» (Мюнх 15). Это утверждение проблематично по нескольким причинам. Во-первых, оно основано на сомнительной статистике, корни которой восходят к нацистской пропаганде (Merridale 318). Как напоминает автор «Женщины в Берлине», кто в то время вообще вёл счёт?
Во-вторых, изнасилование во время войны — явление повсеместное. Изнасилования мусульманок в Боснии, насилие в Руанде, Нанкине, Пакистане, Конго, Либерии, Камбодже, Афганистане и многих других местах доказывают: сексуализированное насилие всегда сопровождало войны. Практики военного насилия варьировались: от спонтанных актов до систематических стратегий, включая создание лагерей сексуального рабства, как в случае японской армии.
Конечно, масштаб трагедии имеет значение. Но не меньшее значение имеет страдание каждой отдельной женщины. Кроме того, Мюнх почти не упоминает о других жертвах: украинках, полячках, еврейках, которые также стали жертвами насилия в Германии.
В дополнение к утверждению об исключительности страданий немецких женщин Инго Мюнх опирается на проблематичную дихотомию жертвы и преступника. В его изложении жертва и преступник — это взаимоисключающие и жёстко гендерные категории. По определению, женщины и девочки оказываются невинными жертвами, не причастными к нацистским преступлениям (26). Мюнх отказывает женщинам в политическом агентстве, превращая их страдания в символ общей виктимизации немцев: «Люди, совершившие преступление [...] Кто держит эти бесчисленные часто используемые формулы — теперь стереотип необходимости и права — не может использовать мысль о том, что рядом с виновными находились и жертвы» (26).
Как показала Элизабет Хайнеманн, этот дискурсивный манёвр возник уже в первые послевоенные годы. «Сначала были воспоминания о женской жертвенности в последней фазе войны, которые затем обобщили в историю страдания всей Германии» («Час» 355). Женские рассказы подчёркивали личные потери и страдания, умалчивая о выгодах, полученных от нацистского режима («Час» 359), что позволило им легко войти в процесс формирования национальной идентичности. Как отмечает Хайнеманн, в то время как изнасилование стало мощной метафорой немецкой виктимизации, правительство отказывалось признавать реальные случаи сексуализированного насилия вражескими оккупантами как травму, достойную возмещения («Час» 372).
Более того, Мюнх утверждает, что изнасилования немецких женщин не были актом мести за аналогичные преступления против русских женщин, так как, по его словам, немецкие солдаты подобных преступлений не совершали. Он настаивает, что немецкие солдаты были сдержаннее, поскольку их родина не подвергалась вражескому вторжению. В духе романтической риторики Мюнх заявляет, что немецкие солдаты не нуждались в насилии, поскольку русские женщины якобы сами стремились к ним: «Тем не менее не все сексуальные отношения в то время были актами сексуального насилия» (29).
Однако современные исследования опровергают это представление. Регина Мюльхойзер приводит убедительные доказательства того, что сексуальное насилие немецких солдат над женщинами и мужчинами не было исключением, а скорее распространённой практикой: военнослужащие принуждали жертв раздеваться, подвергали сексуальным пыткам и групповым изнасилованиям (Mühlhäuser, «Eroberungen», 367). Она подчёркивает, что в условиях голода различие между согласием, принуждением и проституцией практически стиралось.
В то время как Мюнх утверждает, что немецкие женщины были абсолютно невинными, советская пропаганда, напротив, изображала их как соучастниц нацистских преступлений. Как напоминает Наймарк, советские газеты рисовали образ немецких женщин как «желанных фашисток» (108). Известный лозунг «Разбейте расовую гордость германских женщин силой» прямо указывал на восприятие их виновности в нацистской идеологии.
Кроме того, акцент Мюнха на мотивацию «мести» скрывает тот факт, что солдаты Красной армии стремились отомстить не столько за сексуальные преступления, сколько за весь спектр ужаса, обрушившегося на их страну. Как указывает Афина Гроссман, в сознании советских солдат месть была направлена скорее против нацистов, убивавших детей и разрушавших города, чем за изнасилования русских женщин («One War», 20).
Хотя Гроссман делает выводы на основе письменных свидетельств, немецкий историк Регина Мюльхойзер опирается на интервью с жертвами изнасилований, проведённые между 1995 и 1999 годами. Она приходит к выводу, что немедленное чувство стыда не всегда сопровождало изнасилование («Vergewaltigung», 390). Вместо этого отчаяние и стыд, выраженные в более поздних интервью, следует воспринимать как результат изменения дискурсивной среды послевоенного времени. Хотя память о травме всегда формируется под влиянием доминирующих дискурсов, это не означает, что первоначальное событие было пережито без страдания. Более того, травма может усиливаться с возрастом, а её последствия могут изменяться со временем (Kuwert und Eichhorn, 36).
V. Заключение
Истории жертв изнасилований ставят перед нами сложнейшие этические задачи. С одной стороны, существует опасность, что при безоговорочном принятии рассказов жертв мы будем подменять исторический анализ эмоциональной реакцией (Коэн-Пфистер 327). С другой стороны, исключение этих рассказов из канона означает отказ признать полноту человеческого страдания на войне.
Литература изобилует рассказами о фронтовых травмах и физическом и психическом ранении солдат. Как справедливо отмечает Энн Кэхилл, общество склонно ценить мужскую храбрость на войне, в то время как страдания жертв сексуализированного насилия остаются на обочине: «Мы восхищаемся героями и прислушиваемся к их рассказам, но не хотим слышать страдания жертв изнасилования» (120).
И всё же для полноценного понимания последствий войны необходимо, чтобы все формы преследования нашли своё отражение в коллективной памяти. Мы должны читать и истории, подобные мифу о Филомеле: даже если мы отвергаем их наследие насилия, они учат нас критически относиться к простым дихотомиям — жертвы и преступники, молчание и речь.
Кроме того, стоит помнить о ещё одной жертве изнасилования в античной мифологии — Медузе, изнасилованной Посейдоном в храме Афины и затем превращённой в монстра. История Медузы напоминает нам: молчание о насилии — тоже форма насилия. Именно поэтому мы обязаны читать свидетельства жертв не только с состраданием, но и с критическим вниманием.
Примечания

