



Of Loss and Loot: Stalin-Era Culture, Foreign Aid, and Trophy Goods in the Soviet Union during the 1940s |
||
| 20 January 2017 Nathalie Moine |
||
| This article focuses on the influx and circulation of foreign objects in the Soviet Union during the 1940s in order to investigate the specific role of these objects during World War II. It reveals how the distribution of humanitarian aid intersected with both the (non)recognition of the genocide of Soviet Jews during the Nazi occupation, and with Stalinist social hierarchies. It explains why erasing the origins and precise circumstances through which these objects entered Soviet homes could in turn be used to hide the abuses that the Red Army perpetrated against their defeated enemies. Finally, it revises the image of a Soviet society that discovered luxury and Western modernity for the first time during the war by reconsidering the place and the trajectories of these objects in Stalinist material culture of the interwar period. | ||
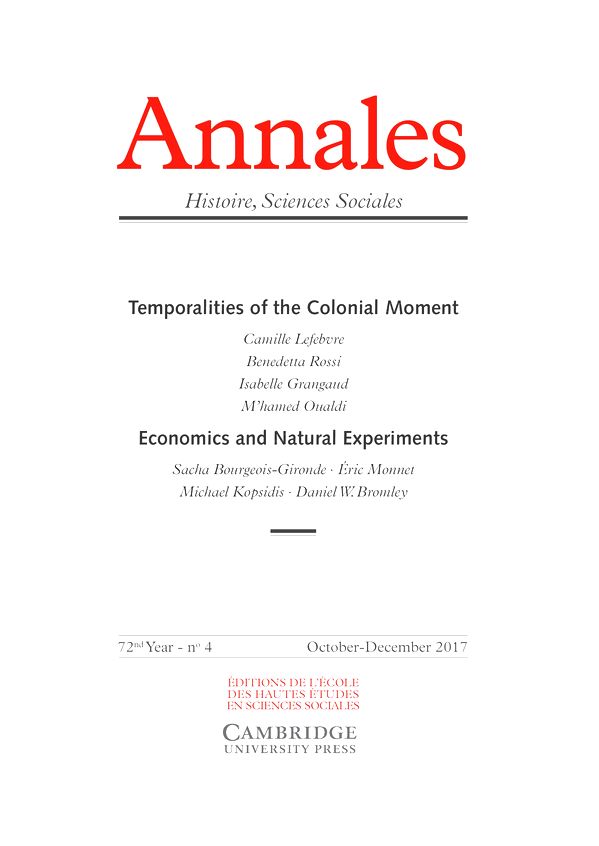
|
||
| This article was translated from the French by John Angell.The author wishes to express her gratitude to the following individuals for their generous assistance in the preparation of this article: Juliette Cadiot, François-Xavier Nérard, Gábor Rittersporn, Brandon Schechter, and Paul Schor. | ||
|
Of Loss and Loot Stalin-Era Culture, Foreign Aid, Nathalie Moine In an essay entitled “Spoils of War,”1 Joseph
Brodsky, writing in
exile
in
America, described
the impact of foreign objects introduced by the war on his
childhood in
Leningrad. His account
mixes trophies seized from the enemy—German or
Japanese—with American aid
goods, including canned foods, radios, and above all films. These
various objects
of diverse origins were invaluable in shaping his individuality and that of his generation, as they created a foreign musical, cinemato-
graphic, vestimentary, and cultural presence within the otherwise
hermetic
Soviet environment, offering citizens the opportunity
to constitute themselves as autono- mous
individuals with respect to their political and social surroundings. It
could
be argued that the culture that Brodsky described, the outcome of indirect contact with other countries made possible by the war, contributed to uniting individuals
within a socially
circumscribed generation. It is also true that, taken as a whole, these
objects
represented unique challenges for the Soviet political system, a
challenge
perpetuated, as Brodsky aptly noted, by the steady stream of Western
products
arriving through illegal or legal means. Until the closing days of the
Soviet regime, these foreign objects were the focus of deep infatuation among
The wider effects of
the war on the status of objects were not limited to the USSR in the 1940s. In fact, over the past two decades, scholarship covering the period of World War II has gradually constructed the idea that the material world of
civilian populations had become an essential feature of
“total
war” for every combatant nation. The goal of Nazi Germany’s systematic pillaging was not merely to acquire wealth, but to humiliate the peoples of defeated countries. This was
followed by a vast attempt to inventory the losses
experienced by the victims, part of a reparations policy that resulted
in the
organized transfer of assets
of
every
kind
as
well
as
financial
compensation,4 in addition to an unprece-
dented influx of privately and publicly funded
humanitarian aid.5 This
three-fold
phenomenon—pillaging, inventories, and
reparations—required the creation of specific administrative agencies in the different countries concerned. The character and contents of the archives that they left behind provide evidence of commonali- ties across individual experiences, and allow scholarly efforts to retrace the history of the objects, including the donations that were collected by American immigrant
communities and sent to the
USSR, the loot gathered by Soviet dignitaries in the conquered
territories, and
the inventories created by Soviet citizens to declare their private losses.
While the fate of
art works and technologically
sophisticated industrial
objects
made
the
deepest
impression,6 it was above all ordinary objects that became central topics in political discussions and high-level conflicts,7 while Abundance from AbroadAfter the immense destruction wrought by the war, Soviet territory experienced an influx of foreign goods that, although totally inadequate to meet the needs of a population still impoverished by the war, was greeted with profound desire. Foreign objects were enormously varied, ranging from used clothing collected by American charitable organizations to the solid gold dishes of 1940s Nazi dignitaries. These consumer goods reflect two very distinct lines of supply. The first, which began approximately mid-war, was foreign aid sent by the Allies or neutral coun- tries via different methods to the Soviet population. The second was the fruit of intense pillaging by the Soviets following the occupation of former enemy territory.
The work of the Soviet Red Cross in liberated zones crystallized their criticisms. Foreign organizations had agreed that the aid was to be distributed “without dis- tinction of nationality,”15 but they had also obtained an agreement in principle that priority would be allocated to districts with the highest concentrations of Jews. However, in the context of the increasingly open anti-Semitism of the population and local authorities, the Jewish Anti-Fascist Committee received abundant mail from individuals complaining that they were excluded from distribution precisely because they were Jewish, quite the opposite of special compensation. One ghetto survivor who returned to his home in Odessa denounced the immoderate desire of his fellow citizens for Jewish property, relatively rare in a city that had already suffered a “furniture catastrophe,” when Jews’ apartments were plundered during the Romanian occupation three years earlier. The term “catastrophe,” used at the time to refer to the genocide of the Jews, was not a random choice of words for the author since, in his view, the two events were “genealogically” connected. The Soviet authorities’ indifference to the stripping of Jewish survivors’ assets, including by the Extraordinary State Commission—responsible for determining crimes perpetrated by the occupiers and assessing damages—ultimately served to deny the fate of a community that the Fascists had virtually destroyed already.16
The
political
importance
attributed
to
such
matters
merits
close
attention:
The means by which these objects were appropriated by Soviet citizens also subverted their original destinations. A pyramidal system of committees was supposed to ensure their distribution, a task taken over, as we have seen, by the Soviet administration. In reality, however, aid sometimes accumulated in ware- houses where local notables were given first choice, as in the case of railway admin- istrators in the Siberia-Ural region who arrived, accompanied by their spouses, maids, and chauffeurs, and made off with the best part of what was in storage. Little remained afterwards other than clothing in poor condition, mismatched stockings, and useless or inappropriate apparel whose theoretical recipients remained a mys- tery. The American gifts that eventually did arrive were thus greeted not only with desire but also with anger, and many of the “deserving poor” expressed indignation and even refused gifts considered doubly insulting in view of their needs and what they felt they deserved, but also with respect to the officials and their families who had been given first pick. News of the scandalous condition of donated clothing became widespread and was repeated across the USSR as far as Magadan.34 Local and regional civil servants were not alone in helping themselves to the bounty that was stored in warehouses, accompanied by their households. The first secretary of the Party in Byelorussia, himself a member of the Central Committee, Panteleimon Ponomarenko, was accused of similar behavior. This cele- brated chief of the partisans during the war apparently did not hesitate to offer the best of what was carelessly stored on the grounds of the central base of Belglavsnab in Minsk to the leaders of the Republic or to keep it for himself.
In reality, the wives
of the top-level administrators in Byelorussia looked forward to the arrival of treasures from Germany labeled “trophies” or “reparations”
far
more
eagerly
than
clothing
and
shoes
from
the
UNRRA.35 The objects contained in the crates of these two distinct origins—foreign donations and “trophies”—were generally stored in the same locations but were distinguishable in two significant
ways: how they had been
collected and their value. In fact, arrivals of “trophy
goods” are etched far
more vividly in Soviet memories than aid that represented Allied
solidarity.
This bounty is inextricably linked to the extreme violence that
accompanied the
Red Army’s occupation of defeated countries. The behavior of
Soviet troops
towards the
civilian population,
particularly the systematic
rape of women, has remained largely unacknowledged in the East, however,36 although
it was
extremely common over a vast territory. One of the first and most
spectacular manifestations of these violent rampages by the occupying Soviets that culminated in
Germany was the sacking of Budapest.37 Although
they have received little attention in Russia, the veritable pogrom
conducted
in Eastern Prussia and the terrorizing of Berlin by the Soviets upon their arrival are widely known in the West, while local memories echo the archives in reporting a dangerous environment for occupied
civilians that lasted for years, involving
sporadic rape and depredation by isolated soldiers and bands of
deserters, who
requisitioned women, livestock, and every kind of food reserves at will
from
terrified villagers. While the Soviet narrative
concerning atrocities committed by the occupiers in the 1940s had
always included
a close connection between assaults on property and physical violence,
in this
instance they became dissociated in Soviet memory and discourse. This dissociation was facilitated by the fact that the physical violence committed against defeated populations differed in scale and nature. In truth, the violence resembled
material damages, not only because they occurred together but also because of the treatment of enemy women’s bodies, as the call to simply kill every representative
of the German nation
vanished from Soviet propaganda. The prevailing idea was that appropriating defeated civilians’ property and assets was justified because of the
pillaging suffered by the Soviet population during the war, an
idea of justice reinforced by the well-known shock Soviets experienced
upon
crossing the bor- der
into
defeated
countries,
which
even
in
ruins
were
so
obviously
more
prosper-
ous than their own country. The Soviets also saw—or believed they saw—among
their defeated enemies, from Romanian cities to Prussian farms, the direct outcome of plundering at the hands of the Germans on Soviet soil, from livestock38 to
This point of view
meant that serving oneself was entirely fair and was not mere blind revenge, a justification that also extended to destroying enemy property.40 Although destructive acts, like physical violence against the population, particularly women,
were not addressed in public discourse in the USSR and continue
to this day to be met with silence, this was not the case concerning
the
confiscation of property—including personal
property—belonging to the residents
of defeated territories. At the time, much as would be true today, the
appropriation of war trophies was seen as both legitimate and harmless.41 For
a Soviet ranking officer, the wristwatch was a typical example of such loot, and witness accounts commonly reflect
that it was not unusual for a soldier to wear several watches on
his arm. Tolerance of such obvious evidence of theft from the enemy
reveals the
meaning attributed to it at the time: not only were watches extremely rare in the USSR and buyers
easily found when a soldier
returned home, but a certain compulsiveness with regard to enemy
property was
also perceived as acceptable.42 Frequently
wearing several watches, even if they did not work, and sometimes on both arms, also
mirrors the treatment of
German women, whose age, physical condition, and other personal characteristics seemed to be unimportant to the soldiers who raped
them.
One of the two men also blamed his wife for illegally transporting goods from occupied villas in Germany to Moscow. Appropriating the resources of occupied Germany was regularly blamed on the wives and female relatives of high-ranking officers, who clearly lacked the Soviet morality represented by their husbands, who were too busy with work to remind them of it. Both men expressed similar disgust at this frenzied accumulation, mentioning the quagmire into which they had been dragged by their wives, who were not educated enough to resist the “deleterious bourgeois environment” of defeated Germany.76 There was very prob- ably a grain of truth to these assertions, which were made easier by the fact that Soviet discourse—and prevailing values—had always claimed that the “survival” of prerevolutionary values, among them an attraction to superfluous material wealth, was the fault of women. Nevertheless, these men were apparently more than capable of using their power to appropriate particular items or to place direct orders with prestigious German manufacturers, even if the items were intended for the most part for women, whether spouses or mistresses—another recurrent association with this hunger for objects that contravened Socialist moral values. The fact that, despite repeated appeals, they were not able to rejoin the Party although they were rehabilitated, can be explained—beyond the twists and turns of de-Stalinization—by the renewed strictness of the Khrushchev period concerning personal enrich- ment and philistine behaviors.
Hidden Prewar Soviet Treasures
Analyzing the inventories that
Soviets in occupied territories, whether they remained at home or were evacuated,80 were invited to submit from the end of
1943 in order to assess the losses caused by the enemy, confirms that
on the
eve of the war and after twenty years of Soviet government, the
material
universe of some
citizens was distinctly tainted
with the philistine tastes
described
by Bulgakov. It also indicates that they had not awaited the flood of foreign goods borne by the war to subscribe to Western cultural practices. Most surprising is the fact that they offered such detailed descriptions in the first place. In an apparent paradox, the destruction and theft of the property of millions of Soviet households by the enemy
accentuated
the rehabilitation of material comfort and, in the process, of individual property, that Stalin initiated during the 1930s. The Soviet government, within the framework of a broad investigation of crimes by the occupying forces in the 1940s and the material losses for which they were responsible, invited the inhabit- ants of occupied regions to declare the entirety of their possessions that had been stolen or destroyed.81 The normative discourse concerning objects that had pre-
vailed before the war was sufficiently weakened in this new context for
some of those declaring their losses to reveal, despite the immense poverty of the vast major- ity of their fellow citizens, ownership of property and possessions such as furniture,
clothing,
and musical instruments that revealed tastes diverging considerably from official ethics, however fluctuating they had proven during the interwar
period. The Ekmekchi’s interior, described in intimate detail, calls to mind the set of a Western bourgeois vaudeville more than it does a Soviet-era interior, even of members of the elite. The fact that Samuil Moiseevich, like others in his class, thought it was reasonable to flaunt their prewar lifestyle to the authorities could appear surprising, because a certain amount of discretion was probably advisable at this level of society in the 1930s. Soviet functioning, with its stratified commercial networks, allowed this kind of lifestyle—one of the primary lessons of these inven- tories—but there was no question of justifying it, because each item had been acquired at great cost, sometimes through relationships that enabled individuals to benefit from bargains, but also through inheritance from the prerevolutionary bourgeoisie. This new feeling of impunity was an outgrowth of the fact that the war made it acceptable to display one’s wealth, since what was being reported had already been stolen by the enemy and would only add to the latter’s guilt and final reparations bill. In the preceding cases, this legitimation seemed to suffice and no particular effort was made in the inventories of lost property to call attention to any sense that the owners subscribed to the regime.
|
||
References¹ Brodsky, Joseph, “Spoils of War,” in On Grief and Reason: Essays (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1995), 3–21. ² Regarding the presence of Western goods in post-Stalin-era Soviet society, see Zakharova, Larissa, S’habiller à la Soviétique. La mode et le Dégel en URSS (Paris: CNRS Éditions, 2011); Alexei Yurchak, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (Princeton: Princeton University Press, 2006); Zhuk, Sergei I., Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960-1985, (Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2010). ³ Regarding objects that came from abroad “thanks to” the war, see Dunham, Vera S., In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). ⁴ Among many studies of the spoliation of Jewish property and the forms of restitution and compensation, see in particular Dean, Martin, Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933-1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Constantin Goschler and Philipp Ther, eds., Raub und Restitution. “Arisierung” und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa (Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 2003); “Spoliations en Europe,” special issue, Revue d’histoire de la Shoah 186 (2007). ⁵ Jessica Reinisch, “Internationalism in Relief: The Birth (and Death) of UNRRA,” in “Postwar Reconstruction in Europe: International Perspectives, 1945-1949,” ed. Mark Mazower, Jessica Reinisch, and David Feldman, Past and Present Special Supplement 6 (2011): 258-89; Laura Hobson Faure, “Un ‘plan Marshall juif’: la présence juive américaine en France après la Shoah, 1944-1954.” (PhD diss., EHESS, 2009). ⁶ Sophie Cœuré, La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, de 1940 à nos jours (Paris: Payot, 2007); see also Sumpf, Alexandre and Laniol, Vincent, eds., Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle (Rennes: PUR, 2012). ⁷ Dreyfus, Jean Marc and Gensburger, Sarah, Des camps dans Paris. Austerlitz, Lévitan, Bassano, juillet 1943-août 1944 (Paris: Fayard, 2003); Annette Wievorka, Le pillage des appartements et son indemnisation (Paris: La Documentation française, 2000). ⁸ Hessler, Julie, A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917-1953 (Princeton: Princeton University Press, 2004); Lewis H. Siegelbaum, Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia (New York: Palgrave Macmillan, 2006); Marina Balina and Evgeny Dobrenko, eds., Petrified Utopia: Happiness Soviet Style (London: Anthem Press, 2009); Crowely, David and Reid, Susan E., eds., Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern Bloc (Evanston: Northwestern University Press, 2010). ⁹ 60 percent in 1943 according to Edward C. Carter, State Archives of the Russian Federation, Moscow (Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii, hereafter “GARF”), collection (fond, hereafter “f.”) 8581, inventory (opis’, hereafter “op.”) 2, file (delo, hereafter “d.”) 59, page (list, hereafter “l.”) 75. ¹⁰ GARF, f. 5283, op. 2a, d. 21, l. 81, 86, 95 and d. 44, l. 127v. Gruliev’s family origins, part Russian and part Jewish, support the assumption that he had linguistic knowledge that allowed him to at least minimally navigate Soviet realities and was particularly sensitive to the fate of Jews in Soviet territory. ¹¹ GARF, f. 5283, op. 2a, d. 21, l. 79-79v, 86 and 92-93. Jewish evacuees were also the subject of Gruliev’s demands inquiring about their situation in the region of Saratov, where Russian War Relief (RWR) prepared an aid program. GARF, f. 5283, op. 2a, d. 21, l. 79-79v (July 1944). ¹² In a proposal in August 1945, Vladimir Kemenov, president of the Pan-Soviet Society for Cultural Rapprochement between the USSR and Foreign Countries (VOKS), suggested to the Commissariat of Foreign Affairs that, as well as the local RWR warehouses and orphanages that benefited from its aid, Carter be taken to visit the emblematic sites that officially represented the martyrdom of the city at the time: the urban reconstruction plan, accompanied by the lead architect, the “Defense of Leningrad” exhibition and the devastated imperial palaces in the area. An additional sign of the importance attributed to the American guest and the role of this official visit in the Soviet staging of the fate of Leningrad, he also planned for a meeting with the Party First Secretary, Petr Popkov, who led the city during the siege, GARF, f. 5283, op. 2a, d. 44, l. 126. Regarding the Stalin-era construction of official memory of the siege of Leningrad, see Kirschenbaum, Lisa A., The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995: Myth, Memories, and Monuments (New York: Cambridge University Press, 2006). ¹³ GARF, f. 5283, op. 2a, d. 44, l. 148-52. ¹⁴ Shimon Redlich, Propaganda and Nationalism in Wartime Russia: The Jewish Antifascist Committee in the USSR, 1941-1948 (Boulder: East European Quarterly, 1982); Berkhoff, Karel C., Motherland in Danger: Soviet Propaganda During World War II (Cambridge: Harvard University Press, 2012). ¹⁵ In other words, ethnic belonging, in terms of Soviet vocabulary and categories. ¹⁶ Mordekhai Altshuler, Itsak Arad and Shmuel Krakovskii, Sovetskie evrei pishut Il’e Erenburgu 1943-1966 (Jerusalem: Yad Vashem, 1993), 140-42 and 222, letter dated July 22, 1944. ¹⁷ Kostyrchenko, Gennadii Vasilievich, Gosudarstvennyi antisemitizm v SSSR ot nachala do kul’minatsii, 1938-1953 (Moscow: Mezhdunarodnyi fond “Demokratiia”/Materik, 2005), June 1944, 52-57. ¹⁸ Regarding the renewal of this ancient (and still hotly debated) question due to the opening of the archives, see Kostyrchenko, Gennadii Vasilievich, Tainaia politika Stalina. Vlast’ i antisemitizm (Moscow: Mezhdunaronye otnosheniia, 2003), and David Brandenberger, “Stalin’s Last Crime? Recent Scholarship on Postwar Soviet Anti-Semitism and the Doctors’ Plot,” Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 6, no. 1 (2005): 187-204. ¹⁹ Georgi Fedorovich Aleksandrov, chief of the propaganda sector of the Central Committee, October 1945, in Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, 130. ²⁰ Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, 120. ²¹ Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, 115-16. ²² Regarding the attempts of the Jewish Anti-Fascist Committee to respond to the expectations of foreign correspondents, see GARF, f. 8114, op. 1, d. 973. ²³ This explains the presence of numerous documents concerning this question of aid in the archives of the Central Committee preserved at the GARF, whose files were carefully selected by the Ministry of Governmental Security (Ministerstvo Gosudarstvennoi Bezopasnosti), and numerous recopied and/or translated documents (particularly from Yiddish). These were described at length by Abakumov in a note dated December 4, 1950. ²⁴ A renaissance facilitated by new legislation and a greater tolerance from which religious denominations represented on Soviet soil generally benefited. Yaacov Ro’i, ed., Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union (Ilford: F. Cass, 1995). ²⁵ Ro’i, Yaacov, “The Reconstruction of Jewish Communities in the USSR, 1944-1947,” in The Jews Are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII, ed. Bankier, David (Jerusalem: Yad Vashem, 2005), 186–205. ²⁶ GARF, f. 6991, op. 3, d. 28, l. 227. ²⁷ Veniamin Fedorovich Zima, Golod v SSSR 1946-1947 godov. Proiskhozhdenie i posledstviia (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1999), 146. ²⁸ Reinisch, “Internationalism in Relief.” Food aid for the Republics of Byelorussia and Ukraine represented respectively 49 percent and 53 percent of the aid sent by UNRRA in the equivalent of US dollars. ²⁹ UNRRA, Economic Rehabilitation in the Ukraine, Operational Analysis Papers, 39 (1947), 68 and 72; UNRRA, Economic Rehabilitation in Byelorussia, Operational Analysis Papers, 48 (1947), 42 and 49, n. 2. ³⁰ UNRRA, Economic Rehabilitation in the Ukraine, 77-78; UNRRA, Economic Rehabilitation in Byelorussia, 53-54. ³¹ Johnston, Timothy, Being Soviet: Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin, 1939-1953 (Oxford: Oxford University Press, 2011), 95–97. ³² GARF, f. 9501, op. 5, d. 315, l. 2-2v. ³³ Varlam Chalamov, “Prêt-bail,” Récits de la Kolyma (Lagrasse: Verdier, 2003), 506. ³⁴ Zubkova, Elena Yu. et al. eds., Sovetskaia zhizn’, 1945-1953 (Moscow: ROSSPEN, 2003), 83–88. ³⁵ Russian State Archives of Social and Political History, Moscow (RGASPI), f. 17, op. 122, d. 139, l. 83-92. ³⁶ Budnitskii, Oleg, “The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945,” Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 10, no. 3 (2009): 629–82. ³⁷ Naimark, Norman M., The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949 (Cambridge: Harvard University Press, 1995); Krisztián Ungváry, The Siege of Budapest: 100 Days in World War II (New Haven: Yale University Press, 2005). ³⁸ Merridale, Catherine, Ivan’s War: Life and Death in the Red Army, 1939-1945 (London: Faber and Faber, 2005), 260. ³⁹ RGVA, f. 32900, op. 1, d. 458, l. 42-42v, 94-5, 98 and 112-16. ⁴⁰ Budnitskii, “The Intelligentsia Meets the Enemy,” 633. ⁴¹ Merridale, Ivan’s War, 279. ⁴² The retouching of the famous photograph by Evgenii Khaldei showing a Red Army soldier who had climbed to the top of the Reichstag, his arm holding the Soviet flag initially decorated by several wristwatches, does not contradict this idea of tolerance, but demonstrates instead the widespread nature of this practice. ⁴³ Une femme à Berlin. Journal, 20 avril-22 juin 1945 trans. Françoise Wullmart (Paris: Gallimard, 2006). ⁴⁴ Gelfand, Wladimir, Deutschland-Tagebuch, 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten (Berlin: Aufbau-Verlag, 2005), 78–82.
* "One
Soviet diarist, however, named Vladimir Gelfand, turned this
disjunction to his advantage, and the day after learning to ride a
bicycle he felt sufficiently at ease to call on a German woman and her
daughter, who had been raped; the woman asked him to protect
them against his compatriots, an offer that he politely
declined" - Nathalie Moine
Original text from the diary of Vladimir Gelfand. Entry from 25.04.1945: Berlin. Spree. The infantry yesterday and the night before yesterday forced the Spree and fought at the railroad tracks. And we - the headquarters of the division, settled until now on one of the coastal streets of Berlin suburbs in large dilapidated multi-storey buildings. Now we have left and are waiting at the bank of the Spree - we will force it. Events are changing so rapidly that they do not always have time to capture the imagination and sometimes it is so difficult, but necessary, to capture the strongest moments in my life that I am ready to forget everything else specially for this purpose. The day before yesterday, in the suburbs of Berlin riding a bicycle (by the way, the day before I learned to ride this wonderful, so it seemed to me, machine), I met a group of German women with knots, suitcases and bales - they are returning home, - I thought locals and, having made 2 circles on the highway, tried to see them closer. But suddenly they all rushed to me in tears and said something in German that was not quite clear. I decided that it was hard for them to carry their belongings and offered them my bicycle. They nodded their heads, and suddenly they looked at me with such emerald eyes, so damnably sharp that somewhere in the depths of my heart a fire of passion flickered, and I convinced myself of the necessity of finding out the cause of these women's suffering. They talked for a long time, explained a lot, and their words merged and melted in an elusive German shorthand. I asked the Germans where they lived in broken German and inquired why they had left their home, and they told me with horror of the grief which the front-line soldiers had caused them on the first night of the Red Army's arrival here. They lived not far from where we were standing and my bike rides, so I was free to go to their house and thoroughly understand the whole story, especially since I was most attracted to the wonderful girl who had become so accidentally and so unexpectedly for herself and her parents the perpetrator of so many experiences. I went with them. I will interrupt for a moment. Dozens of toothy Bostons are rumbling through the air, accompanied, it seems, by our fighters. They are flying to the center of Berlin, and so harmoniously combines all this melody of victory (the menacing singing of "Katyusha", the hum of planes, the bellowing of our guns) with my mental mood. But I will continue my story. They lived well. A huge two-storied house with luxurious furnishings, magnificent interior decoration and painting of walls and ceiling. The family was numerous. When our soldiers came, they forced everyone into the basement. And the youngest of all the adults and the most beautiful, perhaps, was taken away with them and mocked. - They poked here," the beautiful German explained, pulling up her skirt, "all night long, and there were so many of them. I was a girl," she sighed and cried. They spoiled my youth. There were old, pimply ones among them, and they were all pawing at me, all poking me. There were at least twenty of them, yes, yes," and she burst into tears. - They raped my daughter in front of me," put in the poor mother, "they may come and rape my girl again. - At this again everyone was horrified, and bitter sobs ran from corner to corner of the cellar where my hosts had brought me. - Stay here," the girl suddenly rushed to me, "you will sleep with me. You can do whatever you want with me, but you're the only one! I'm ready to fic-fic with you, I agree to anything you want, but save me from the masses of people with these kind of dick....! She showed and talked about everything, and not because she was vulgar. Her grief and suffering exceeded shame and conscience, and now she was ready to strip naked in public, only not to be touched by her tortured body, not to touch what for years could still remain untouched, and which so suddenly and rudely had been [...] Her mother begged me along with her. - Don't you want to sleep with my daughter?! The Russian comrades who were here, they all wanted to! They may come, or new twenty will appear in their place, and then my grief is undivided! The girl began to embrace me, begging me, smiling broadly through her tears. It was difficult for her to persuade me, but she tried to use everything that is in the art of a woman, and played her part well. I, inclined to everything beautiful, was easily attracted by shining eyes, but military duty is above all and I decided first of all to take advantage of the position, and secondly to help people. diary entry sheets: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
⁴⁵ The first Soviet cameras were as rare as they were mythical, because they were produced in the model orphan camp (besprizorniki) called Felix Dzerzhinsky. The FED 1 came out in 1934, and one was produced for every five hundred inhabitants in 1937. Photography development material was just as scarce and expensive, meaning that amateur photography remained quite limited before the 1950s. See Narskii, Ivan, Fotokartochka na pamiat’: semeinye istorii, fotograficheskie poslaniia i sovetskoe detstvo (avtobio-istoriograficheskii roman) (Cheliabinsk: Èntsiklopediia, 2008), 317–18.Google Scholar ⁴⁶ A revealing fact concerning the perspective of contemporary Russian society, including the intelligentsia, on this aspect of the war is that the first group photograph of the three child-heroes of a recent novel was taken by an old, patriotic military doctor who had a “superb trophy camera,” revealing interesting prerevolutionary manners in private scenes. Ulitskaia, Liudmila, Zelenyi shater (Moscow: Èksmo, 2011), 22–25.Google Scholar ⁴⁷ Gelfand, Deutschland-Tagebuch, 205, January 14, 1946. ⁴⁸ Ibid., 267, May 22, 1946, and 302, August 27, 1946. He most likely learned these skills in May 1946, when he was in frequent contact with a cultivated Polish family who came from regions annexed by the USSR. Ibid., 308, September 11, 1946. ⁴⁹ Ibid., 306, September 6, 1946, and 308, September 7, 1946. These photographs of the occupation echo the better-known and certainly more widespread practice of German soldiers in occupied territory photographing both young women and scenes of atrocity. Still, Gelfand’s journal does not seem to indicate that his goal was to photograph traces of the war. ⁵⁰ Ibid., 269, letter to his mother dated May 27, 1946. Gelfand was certainly predisposed towards photography: he regularly had his portrait taken by professional photographers and mailed numerous snapshots to his mother and his other women correspondents. He also papered the walls of his room in Germany with purchased and found photographs. ⁵¹ In addition to utilitarian clothing, Gelfand’s mother ordered a radio receiver through him, ibid., 181, letter dated November 15, 1945. ⁵² Knyshevskii, Pavel, Moskaus Beute. Wie Vermögen, Kulturgüter und Intelligenz nach 1945 aus Deutschland geraubt wurden (Munich: Olzog Verlag, 1995)Google Scholar. ⁵³ Budnitskii, “The Intelligentsia Meets the Enemy,” 657. Regarding the frenzied mailing of packages by the Germans during occupation, including from the USSR and particularly from the Ukraine, see Aly, Götz, Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State, trans. Chase, Jefferson (New York: Metropolitan Books, 2007)Google Scholar. ⁵⁴ Merridale, Ivan’s War, 281. ⁵⁵ Gelfand, Deutschland-Tagebuch, 180, letter to Gelfand from his mother dated November 15, 1945, in which she asked him not to write her any longer at her work address, and particularly to send no packages. ⁵⁶ Edele, Mark, Soviet Veterans of the Second World War: A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941-1991 (Oxford: Oxford University Press, 2008), 30.CrossRefGoogle Scholar Gelfand left Germany in more modest circumstances, with two “small but heavy” suitcases and two bags. Gelfand, Deutschland-Tagebuch, 312, September 26, 1946. ⁵⁷ Ibid., 204-5, January 14, 1946, and 211, January 21, 1946. ⁵⁸ Ibid., 176-77, November 6, 1945. ⁵⁹ Knyshevskii, Moskaus Beute. ⁶⁰ Knyshevskii, Pavel N., Dobycha: Tainy germanskikh reparatsii (Moscow: Soratnik, 1994), 120–21.Google Scholar ⁶¹ Gelfand, Deutschland-Tagebuch, 218, letter to his mother, January 26, 1946: purchase of a “good” receiver with five lamps for four thousand marks; 280, June 23, 1946: a radio valued at two thousand marks that he traded for two suits; 300, testimony of August 28, 1946. ⁶² Vaissié, Cécile, Russie: une femme en dissidence. Larissa Bogoraz (Paris: Plon, 2000), 39.Google Scholar ⁶³ Valérie Pozner, “Le sort des films trophées saisis par les Soviétiques au cours de la Seconde Guerre mondiale,” in Sumpf and Laniol, Saisies, spoliations et restitutions, 147-64. ⁶⁴ See Fürst, Juliane, Stalin’s Last Generation: Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialism (Oxford: Oxford University Press, 2010)CrossRefGoogle Scholar, especially 200-49. ⁶⁵ Edele, Soviet Veterans, 91. ⁶⁶ GARF, f. 5446, op. 49a, d. 467, l. 12-18. Regarding reparations policies, see Fisch, Jörg, Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg (Munich: C. H. Beck, 1992)Google Scholar. ⁶⁷ GARF, f. 5446, op. 49a, d. 2848, l. 1-3, I am grateful to Juliette Cadiot for bringing the existence of this file to my attention. Regarding the participation of the commercial authorities of the government in the black market as an invariable feature of the operation of the Soviet economy, see Tamara Kondratieva, “Les personnes matériellement responsables sous le régime de propriété socialiste,” in Les Soviétiques. Un pouvoir, des régimes, ed. Tamara Kondratieva (Paris: Les Belles Lettres, 2011), 113-30. ⁶⁸ Regarding Stalin’s personal involvement in reducing Ponomarenko’s power at the helm of Byelorussia by appointing Gusarov a year earlier on February 27, 1947, see Khlevniuk, Oleg V. et al., Politbiuro TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR, 1945-1953 (Moscow: ROSSPEN, 2002)Google Scholar, 47n1. ⁶⁹ The Byelorussian leadership was also denounced for embezzling public resources in order to build private homes, demonstrating similar disinterest in the misfortunes of the citizens whom they served, many of whom were forced to live in earthen huts, and the same profit motive, as some rented out the houses that they built with public funds, or resold them at “speculative” prices. ⁷⁰ GARF, f. 8131, op. 37, d. 3187, l. 17, report by the prosecutor’s office of the Nikolaev (present-day Mykolaiv) region, April 1946. ⁷¹ Regarding this “war of the services,” see Petrov, Nikita, Pervyi predsedatel’ KGB Ivan Serov (Moscow: Materik, 2005)Google Scholar. Except when otherwise stated, this book is the source of information concerning this affair. ⁷² In his own defense, Serov in turn accused Abakumov of arranging to have twenty carloads of loot delivered to Moscow despite the fact that the war was at its peak, and of having loaded an airplane bound for recently liberated Crimea with trophy goods. Although he was not as highly placed, Sidnev admitting to using SVAG aircraft or Serov’s planes to transport large amounts of seized goods to furnish his Leningrad apartment. See also the repeated use of regular Byelorussian flights and Ponomarenko’s personal airplane to transport several tons of carpets and other highly valuable items back to Minsk, RGASPI, f. 17, op. 122, d. 308, l. 92. ⁷³ Akinsha, Konstantin and Kozlov, Grigorii, Beautiful Loot: The Soviet Plunder of Europe’s Art Treasures (New York: Random House, 1995)Google Scholar; Knyshevskii, Moskaus Beute; Margarita S. Zinich, Pokhishchennye sokrovishcha: vyvoz natsistami rossiiskikh kul’turnykh tsennostei (Moscow: In-t rossiiskoi istorii RAN, 2003). ⁷⁴ GARF, f. 5446, op. 49a, d. 243, l. 38-39 and 51. ⁷⁵ However, three individuals arrested in the same case received suspended sentences during their trial in October 1951, after more than three and a half years of detention that had driven one of them to the prison psychiatric ward. ⁷⁶ The fact that both men used the same arguments can be explained by their proximity, but the theme of a “philistine swamp” (obyvatel’skoe boloto) is a moralistic trope in Bolshevik discourse. ⁷⁷ Osokina, Elena, Zoloto dlia industrializatsii: “TORGSIN,” (Moscow: ROSSPÈN, 2009)Google Scholar, especially 83-102 and 118-46. ⁷⁸ “Exactly a minute later a pistol shot rang out, the mirrors disappeared, the display windows and stools dropped away, the carpet melted into air, as did the curtain. Last to disappear was the high mountain of old dresses and shoes, and the stage was again severe, empty and bare,” Mikhail Bulgakov, The Master and Margarita, trans. Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (London: Penguin, 1997), 130. ⁷⁹ Ibid., 163-70. ⁸⁰ Many of the inventories analyzed for this study were written by individuals evacuated early in the war to the Urals and to Central Asia. The particular relationship between these individuals and their assets is due to several factors. Having left most of their assets and property behind them, they could only imagine the worst, in other words, their total disappearance, and not only at the hands of the enemy. The question of the inventory and the preservation of property left behind by evacuees had, since the beginning of the war, given rise to a series of decrees intended to protect them from indelicate neighbors’ appropriations. GARF, f. 5446, op. 43a, d. 6328. In reality, the situation was far more confused. Many of the evacuees belonged to the Soviet elite and included some individuals of Jewish origin who may have been doubly concerned about their property. Regarding the social profile of evacuees and their experience of the war, see Manley, Rebecca, To the Tashkent Station: Evacuation and Survival in the Soviet Union at War (Ithaca: Cornell University Press, 2009)Google Scholar. ⁸¹ Moine, Nathalie, “La commission d’enquête Soviet sur les crimes de guerre nazis: entre reconquête du territoire, écriture du récit de la guerre et usages justiciers,” Le Mouvement social 222, no. 1 (2008): 81–109.CrossRefGoogle Scholar ⁸² Vaissié, Russie: une femme en dissidence, 61-62. ⁸³ “If we leave aside ninety million peasants who prefer to sit on wooden benches, boards or earthen seats, and in the east of the country, shabby carpets and rugs, we still have fifty million people for whom chairs are objects of prime necessity in their everyday lives,” Ilf and Petrov, The Twelve Chairs, trans. John Richardson (London: Frederick Muller, 1965), 118. ⁸⁴ Grossman, Vassily, Life and Fate, trans. Chandler, Raymond (London: Harvill Press, 1995), 81.Google Scholar ⁸⁵ The average worker’s salary in the 1930s was three hundred rubles. ⁸⁶ GARF, f. 7021, op. 28, d. 68, act 133. Obviously, evaluating market prices at the time of the creation of the act by the commissions distorts matters considerably: the coat was probably purchased for a far lower price, depending on when, and especially how, it was bought. See Moine, Nathalie, “Évaluer les pertes matérielles de la population pendant la Seconde Guerre mondiale en URSS: vers la légitimation de la propriété privée?” Histoire et Mesure 28, no. 1 (2013): 187–216.CrossRefGoogle Scholar ⁸⁷ Among a large number of studies of this question, see Kelly, Catriona and Volkov, Vadim, “Directed Desires: Kul’turnost’ and Consumption,” in Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940, ed. Kelly, Catriona and Shepherd, David (Oxford: Oxford University Press, 1998), 291–313.Google Scholar ⁸⁸ Note that the acts only rarely indicate victims’ professions. ⁸⁹ GARF, f. 7021, op. 28, d. 68, act 121. ⁹⁰ GARF, f. 7021, op. 28, d. 31, l. 142. ⁹¹ Regarding the official cult devoted to Pushkin, particularly during his jubilee year in 1937, see Platt, Kevin M. F. and Brandenberger, David, eds., Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda (Madison: University of Wisconsin Press, 2005)Google Scholar. ⁹² This author was found among the small travel kit that Strum’s mother took with her when she entered the Berdichev ghetto. It was essentially comprised of her most precious books, along with photographs, letters, and the basic necessities for sleeping, eating, and continuing to practice medicine. Her description serves to connect Anna Semenovna to an intelligentsia of Russian culture that was intimately familiar with nineteenth-century Russian-language authors and also possessed some acquaintance with certain French literary texts (she continued to give French lessons in the ghetto), whereas Ukrainian plebeians reminded her of “what [she]’d forgotten during the years of Soviet regime—that [she] was a Jew,” Grossman, Life and Fate, 81. It can easily be imagined that the same kind of self-representation operated in these somewhat dry lists of literary works. As opposed to Semenovna, however, who represented the intelligentsia which holds material possessions in contempt, victims of pillaging registered such cultural references as a sort of material comfort that was certainly equally meaningful to them, outside of the question of possible financial compensation. ⁹³ The painting in question is “A Morning in a Pine Forest” by the painter Ivan Ivanovich Shishkin (1832-1898), exhibited in the Tretiakov Gallery in Moscow and in mass reproduction even to the present day, particularly on boxes of chocolate manufactured by the well-known “Krasnyi Oktiabr’” factory. ⁹⁴ In Ilf and Petrov’s novel, the twelve chairs belonged to a certain Vorobianinov, marshal of the nobility converted into a government employee after the revolution. Learning that one of them contained an inestimable treasure, a discovery that launches the novel’s plot, he recalls the vanished salon of his former provincial home: “He clearly remembered the drawing room in his house, and its symmetrically arranged walnut furniture with curved legs, the polished parquet floor, the old brown grand piano, and the oval black-framed daguerreotypes of high-ranking relatives on the walls,” Ilf and Petrov, The Twelve Chairs, 15. Corny memories for the two satirists, this nostalgia probably did not seem quite as ridiculous to some readers. ⁹⁵ The ambitious reconceptualization of 1920s lifestyles, which has remained highly theoretical but for which each detail was significant, went so far as to denounce, for example, the production of tea services for a determined number of guests (six or twelve depending on convention), which tended to preserve a mode of sociability oriented towards the domestic living space instead of promoting spending all of one’s time in the collective living space of the canteen. V. S., “Oformlenie byta. Proizvodstvennye organizatsii ne raskachalis’,” Iskusstvo v massy 4 (1930): 22-23, cited in Karen Kettering, “‘Ever More Cosy and Comfortable’: Stalinism and the Soviet Domestic Interior, 1928-1938,” Journal of Design History 10, no. 2 (1997): 119-35, here 126. The fact that Evdokia Samoilovna lists a tea service that is both made of expensive material and designed for a large number of guests, shows the extent to which prescriptions had limited influence, but also how the context of the war often permitted an inversion of values in terms of material possessions. ⁹⁶ GARF, f. 7021, op. 100, d. 71, act 184. When she wrote her declaration, Iantovskaia was living in a house in Chirchik, a new city in Uzbekistan thirty kilometers from Tashkent. She was separated from her husband, who had disappeared in the Urals during the early stages of the evacuation. Like so many other evacuees, her standard of living had declined, although she claimed to be receiving a monthly income of one thousand two hundred rubles. Her letter is marked by virulent “anti-Kraut” Soviet patriotism, but her primary motivation was certainly related to her fierce desire to be reimbursed, leading her to include, amid dishes and pots and pans, six gold teeth and six dental crowns in the inventory. The anachronism suggested by this latter point, particularly given by a Jewish evacuee should not be surprising. The mercant ile value of gold teeth was not first discovered by those who pilfered them from cadavers. When they needed to, individuals could conceive of having their teeth extracted and reselling them or trading them for bread and other staples. See “Svershilos’. Prishli nemtsy!” Ideinyi kollaboratsionizm v SSSR v period Velikoi Otechestvennoi voiny (Moscow: ROSSPEN, 2012), 98 (respectively November 26 and December 2, 1941). ⁹⁷ References to children’s furniture are extremely rare in inventories. One evacuee from Kharkov, Iakov Moiseevich Gurevich, mentions a children’s sofa, a small table, and three chairs for his two daughters. He belonged to a comfortable class with a modernist orientation in a number of domains: an expensive piano, a collection of two hundred record albums, and electric domestic items including an oven, kitchen elements, and an iron, GARF, f. 7021, op. 100, d. 53, act 171. Toys are also almost never referred to in inventories. Dmitrii Nikolaevich Golovastikov, an engineer at a factory that manufactured machines in Voronezh, had a similar profile: 250 records, a radio, highly serious reading material—technical, political, a bit of literature—as well as two porcelain dolls with eyes that closed, two “Ded moroz,” and even a string of electric Christmas lights, which is revealing in that such items were only re-authorized in 1936, GARF, f. 7021, op. 100, d. 71, act 194. References to children’s bicycles are encountered more frequently, however. Regarding the scarcity of toys in the Stalin-era Soviet Union, see Kelly, Catriona, Children’s World: Growing up in Russia, 1890-1991 (New Haven: Yale University Press, 2007)Google Scholar. ⁹⁸ GARF, f. 7021, op. 100, d. 53, act 158. ⁹⁹ GARF, f. 7021, op. 100, d. 71, act 166. ¹⁰⁰ GARF, f. 7021, op. 100, d. 71, act 194. ¹⁰¹ GARF, f. 7021, op. 28, d. 31, l. 20. Ivan Konstantinovich Aivazovskii (1817-1900), a great lover of the navy and Romantic Russian painter who was popular both before the revolution and in the 1930s. In an article published at the end of the 1930s, Aivazovskii was cited among the painters whose works would best decorate Soviet interiors—provided the art afficionados acquired quality reproductions like those published by Izogiz. This article was typical of the lessons on rigidly defined official definitions of good taste published in the journal and aimed at Soviet middle-class women. Kravchenko, K., “O kartinakh i reproduktsiiakh,” Obshchestvennitsa 15 (1937): 17–19;Google Scholar Arkhip Ivanovich Kuindzhi, Russian landscape artist, 1842-1910. ¹⁰² The Soviet government never seemed to have envisioned including in the list of art works taken by the enemy and potentially subject to being returned or compensation, anything other than works taken from museums and other public institutions. See Akinsha, Konstantin, “Stalin’s Decrees and Soviet Trophy Brigades: Compensation, Restitution in Kind, or ‘Trophies’ of War?,” International Journal of Cultural Property 17, no. 2 (2010): 195–216.Google Scholar ¹⁰³ It was still probably too early for ordinary Soviets to evaluate the changes put in place by the Kremlin regarding religion. See Chumachenko, Tatiana A., Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years, trans. and ed. Roslof, Edward E. (Armonk: M. E. Sharp, 2002)Google Scholar. ¹⁰⁴ GARF, f. 7021, op. 100, d. 53, act 243. ¹⁰⁵ “Whose furniture do you want to know about? Angelov, first-guild merchant? Certainly. ... Taken from Angelov on December 18, 1918: Baecker grand piano, one, no. 97012; piano stools, one soft; bureaux, two; wardrobes, four (two mahogany); bookcases, one... and so on. ... The letter V it is. ... In one moment. Vm, Vn, Vorotsky, no. 48238, Vorobyaninov, Ippolit Matveyevich, your father, God rest his soul, was a man with a big heart... A Baecker piano, no. 54809. Chinese vases, marked, four, from Sèvres in France; Aubusson carpets, eight, different sizes; a tapestry, ‘The Shepherd’s Boy’; a tapestry, ‘The Shepherd’s Girl’; Tekke carpets, two; Khorassan carpets, one; stuffed bears with dish, one; a bedroom suite to seat twelve; a dining room suite to seat sixteen; a drawing room suite to seat twelve, walnut, made by Hambs,” Ilf and Petrov, The Twelve Chairs, 77-78. ¹⁰⁶ Regarding the practice of seizing furniture immediately following the revolution, see the admirable reconstitution of a luxury apartment building in Petrograd by Zakharova, Larissa, “Le 26-28 Kamennoostrovski. Les tribulations d’un immeuble en révolution,” in Saint-Pétersbourg. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, ed. Meaux, Lorraine de (Paris: R. Laffont, 2003), 473–505.Google Scholar ¹⁰⁷ The famous photographs featuring representatives of the former elites add to the stories and testimonies. In the pictures, the figures are standing on a sidewalk awaiting a client, obliged to sell their last possessions during the Civil War to be able to purchase basic necessities. ¹⁰⁸ The director of the asylum for the elderly to whom one of the twelve chairs had been attributed resold it to one of the characters in the novel, who pretended to be a perekoupchtchik, i.e., from the perspective of Soviet law, an intermediary illegally purchasing an item, whether or not it was government property, in order to resell it to a client and pocket the difference, Ilf and Petrov, The Twelve Chairs, 54-55. ¹⁰⁹ The novel introduces us to the fate of another set of Gambs chairs, sought after in error by a greedy pope: seized from the home of the wife of a Stargorod general, they were given to “Engineer Bruns,” who left the city in 1923 for Kharkov, taking with him all of his furnishings, “and was looking after it very carefully.” He then traveled to Rostov, where he worked for a large cement manufacturer before being invited to work at the Baku refineries, where the furniture henceforth decorated his comfortable dacha, amidst the luxuriant vegetation of a hill overlooking Batumi, making Bruns into an avatar of the colonial elites, ibid., 55, 150, 211 and 287-92. ¹¹⁰ Which did not prevent the technician of the theater from clandestinely reselling the assets assigned to his theater to individuals, in this case to the heroes desperately seeking to acquire such bounty, ibid., 137-38, 164-68 and 280. ¹¹¹ The Russian version of the article by Larissa Zakharova, “Le 26-28 Kamennoostrovski,” is also entitled “The Twelve Chairs,” an indication of the extent to which the novel, and its moral, were inextricably linked in the Soviet and post-Soviet consciousness, from its publication to the present day, with the fate of the assets of the former tsarist elites. ¹¹² “‘It’s all here,’ he said, ‘the whole of Stargorod. All the furniture. Who it was taken from and who it was given to. And here’s the alphabetical index—the mirror of life! ... It’s all here. The whole town. Pianos, settees, pier glasses, chairs, divans, pouffes, chandeliers... even dinner services,’” Ilf and Petrov, The Twelve Chairs, 77. ¹¹³ This disappearance is clearly of variable rapidity depending on social level, age, etc. The nostalgia that developed for the Soviet material domain did not interrupt this process, given the extent to which it was itself a part of a Western mode of commercialization. |
||
 |
© Cambridge University
Press
© Annales
© Nathalie Moine
О потерях и награбленном: культура сталинской эпохи, иностранная помощь и трофейные товары в Советском Союзе в 1940-е годы |
||
| 20 янв. 2017 Nathalie Moine |
||
| Данная статья посвящена притоку и обращению иностранных предметов в Советском Союзе 1940-х годов с целью изучения их особой роли в период Второй мировой войны. В ней демонстрируется, каким образом распределение гуманитарной помощи пересекалось с отрицанием геноцида советских евреев во время нацистской оккупации, а также со сталинской социальной иерархией. Анализируется, почему стирание происхождения и точных обстоятельств попадания этих предметов в советские дома могло использоваться для сокрытия злоупотреблений, совершаемых Красной армией в отношении побеждённых врагов. В заключение, в работе пересматривается образ советского общества, впервые открывшего для себя роскошь и западную современность в годы войны, посредством анализа места и траектории движения данных предметов в материальной культуре сталинского межвоенного периода. | ||
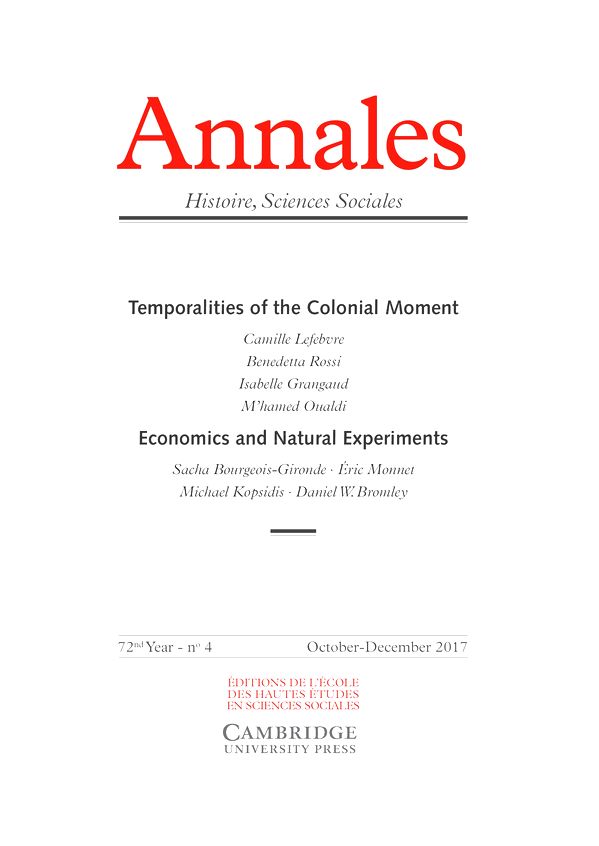
|
||
| Статья переведена с французского Джоном Энджеллом. Автор выражает благодарность следующим лицам за щедрую помощь в подготовке этой статьи: Жюльетт Кадио, Франсуа-Ксавье Нерар, Габору Риттерспорну, Брэндону Шехтеру и Полу Шору. | ||
|
Культура сталинской эпохи, иностранная помощь и трофейные товары в Советском Союзе в 1940-е годы Nathalie Moine В эссе под названием «Военные трофеи»¹ Иосиф Бродский, писавший в эмиграции в США, описал влияние иностранных предметов, принесённых войной, на его детство в Ленинграде. В его рассказе трофеи, захваченные у врага — немцев или японцев, — смешиваются с американскими предметами гуманитарной помощи, включая консервы, радиоприёмники и, прежде всего, фильмы. Эти вещи разного происхождения сыграли важную роль в формировании его индивидуальности и идентичности его поколения, поскольку они вносили иностранное музыкальное, кинематографическое, одежное и культурное присутствие в иначе закрытую советскую среду, предоставляя гражданам возможность заявить о себе как об автономных личностях, отличных от своего политического и социального окружения. Можно утверждать, что культура, описанная Бродским, — результат косвенных контактов с другими странами, ставших возможными благодаря войне, — способствовала консолидации внутри социально замкнутого поколения. Кроме того, эти объекты в целом представляли собой уникальный вызов советской политической системе — вызов, который, как метко заметил Бродский, усугублялся постоянным потоком западных товаров, поступавших как легально, так и нелегально. Вплоть до последних дней советского режима эти иностранные предметы вызывали глубокий интерес советского населения не только по материалистическим причинам, но и в связи с воспоминаниями о более или менее мифологизированной культуре.² Предметы сыграли значительную роль в формировании воображаемого, оказавшего влияние на развитие идентичности Бродского в годы его юности среди руин Ленинграда.³ Примечательно, что в его воспоминаниях происхождение этих предметов размыто: одни были подарками союзников, другие — военными трофеями. Цель данного исследования — воссоздать эту картину, но в обратном направлении, изучив обстоятельства появления этих предметов в городе-мученике Ленинграде и на всей территории Советского Союза. В работе рассматривается роль широкого круга акторов и политических событий как во время войны, так и в послевоенный период в массовом притоке иностранных товаров, а также предпринимается попытка объяснить своего рода амнезию или безразличие бывших соотечественников Бродского в отношении происхождения этих предметов. Хотя представление о советской жизни как о единообразно серой, жесткой и, прежде всего, закрытой — которое во многом основано на современных рассказах — заслуживает внимания, ему также следует подвергнуть сомнению. На самом деле война впервые принесла во все слои советского общества фрагменты западной цивилизации, позволяя демонстрировать довоенные вещи, украденные или уничтоженные врагом, в описях, которые отражают гораздо более разнообразные и изысканные вкусы и воображение, чем предполагалось ранее. Это объясняется, в том числе, изменениями в официальных предписаниях о вкусах, которые с 1930-х годов реабилитировали стиль, унаследованный от европейского среднего класса XIX века. Таким образом, «Военные трофеи» Бродского ставят под сомнение всю материальную культуру, созданную революцией — не только предметы, её составлявшие, но и социальные отношения, связанные с этими предметами, и отношение к изобилию, роскоши и западным вкусам. Поэтому вопрос нельзя ограничивать только окончанием войны; необходимо изучать несколько более ранних периодов, чтобы понять, как война и связанные с ней предметы повлияли на советскую цивилизацию. Более широкое влияние войны на статус предметов не ограничивалось СССР 1940-х годов. За последние два десятилетия в исследованиях Второй мировой войны всё больше признаётся, что материальный мир гражданского населения стал неотъемлемой частью концепции «тотальной войны» для всех воюющих стран. Систематический грабёж нацистской Германии имел целью не только обогащение, но и унижение народов побеждённых стран. За этим последовала масштабная попытка учёта потерь жертв в рамках репарационной политики, сопровождавшаяся организованной передачей активов и выплатой компенсаций⁴, а также беспрецедентным притоком гуманитарной помощи от частных и государственных организаций.⁵ Это триединое явление — грабёж, инвентаризация и возмещение ущерба — потребовало создания специальных административных учреждений в разных странах. Архивы этих учреждений свидетельствуют об общности индивидуального опыта и позволяют проследить историю предметов — от пожертвований американских иммигрантских сообществ до трофеев советских чиновников на оккупированных территориях и описи личных потерь советских граждан. Наибольшее внимание привлекла судьба произведений искусства и технологически сложных промышленных объектов,⁶ однако именно обычные вещи становились предметом политических дискуссий и конфликтов на высшем уровне,⁷ а для многих война оставалась главной заботой, которая могла стать как катастрофой, так и благословением. Таким образом, опыт Советского Союза является частью более широкой роли предметов и процесса их наделения значениями в военное время. Однако несмотря на общие черты с другими воюющими обществами, сталинский СССР — сочетание экономики дефицита, глубокой политизации даже мелочей материального имущества и стремления власти контролировать распределение⁸ — придал этим предметам особый статус, который война лишь усилила. «Военные трофеи» Бродского касались всех слоёв советского общества, несмотря на то, что их глубокое значение определялось меняющимися отношениями к материальному комфорту, западной культуре и политической лояльности советской элиты. Изобилие из-за границыПосле масштабных разрушений, вызванных войной, на территорию Советского Союза хлынул поток иностранных товаров, которые, хотя и были явно недостаточны для удовлетворения потребностей населения, всё же встречались с глубоким желанием и интересом. Иностранные товары отличались большим разнообразием: от подержанной одежды, собранной американскими благотворительными организациями, до посуды из чистого золота, принадлежавшей нацистским сановникам 1940-х годов. Эти потребительские товары отражали две принципиально разные линии поставок. Первая, начавшаяся примерно в середине войны, представляла собой иностранную гуманитарную помощь, направляемую союзниками или нейтральными странами советскому населению различными способами. Вторая — результат масштабного грабежа, осуществленного советскими войсками после оккупации территорий бывших противников. Еврейские организации сыграли ключевую роль в этой небольшой, но важной части западной помощи — посылках с предметами первой необходимости. Администрация Сталина понимала значимость огромного количества эмигрантов из бывшей Российской империи, которые, объединяясь в многочисленные группы, выступали естественными донорами. Власти прилагали усилия для мобилизации этих групп с целью оказания помощи советскому населению. Однако отношения между этими структурами никогда не были простыми, поскольку в них повторялись старые конфликты вокруг гуманитарной помощи, подозреваемой в содействии пропаганде и социальным напряжениям ещё со времён первых дней Советской России. Тогда большевики одновременно пытались стимулировать и направлять помощь голодающим и пострадавшему еврейскому населению, ставшему жертвой погромов в период Гражданской войны. Еврейские доноры часто выражали сомнения и недовольство относительно того, кто именно получал помощь, а атмосфера подозрительности сохранялась в еврейских антикоммунистических кругах на протяжении всей войны. Для противодействия такой критике эти группы считали необходимым контролировать ситуацию на местах, в освобождённых советских регионах. Начиная с конца 1943 — начала 1944 годов, «Русская военная помощь», главная организация, курировавшая американскую гуманитарную помощь, преимущественно еврейскую,⁹ имела постоянного представителя в Москве — Льва Грулёва.¹⁰ Несмотря на усилия, ему был закрыт доступ в провинции с традиционно сильным еврейским населением.¹¹ В августе 1945 года, когда его посетил просоветски настроенный американский интеллектуал Эдвард Картер, советская администрация показала ему лишь города-герои Ленинград и Сталинград,¹² а кульминацией визита стал шахтёрский регион Донбасса.¹³ Маршрут визита отражал географию военных жертв, уделяя особое внимание символам героического сопротивления советского народа, русскому культурному наследию и промышленным достижениям сталинской эпохи, одновременно замалчивая факты массовых убийств евреев. Об этом напряжении, связанном с распределением помощи, неоднократно информировал власти Еврейский антифашистский комитет, созданный в начале войны Кремлём для мобилизации мнения западных евреев.¹⁴ Деятельность советского Красного Креста в освобождённых зонах выявила и зафиксировала эти критические замечания. Иностранные организации согласились, что помощь должна распределяться «без различия национальности»,¹⁵ однако они добились принципиального соглашения о приоритете районов с высокой концентрацией еврейского населения. Тем не менее, на фоне растущего антисемитизма среди населения и местных властей Еврейский антифашистский комитет получал множество жалоб от лиц, исключённых из помощи именно из-за их еврейского происхождения, что противоречило самой сути специальных компенсаций. Один из выживших в гетто, вернувшийся в Одессу, осуждал чрезмерное стремление сограждан к еврейскому имуществу — относительно редкое явление для города, пережившего «мебельную катастрофу», когда квартиры евреев были разграблены во время румынской оккупации три года назад. Термин «катастрофа», в то время ассоциировавшийся с геноцидом евреев, был выбран автором не случайно, поскольку он считал, что эти два события связаны «генеалогически». Равнодушие советских властей к лишению имущества выживших евреев, включая Чрезвычайную государственную комиссию, ответственную за расследование преступлений оккупантов и оценку ущерба, в конечном итоге привело к отрицанию судьбы еврейской общины, которую фашисты почти полностью уничтожили.¹⁶ Политическое значение, придаваемое таким вопросам, заслуживает особого внимания: расследования, проведённые Вячеславом Молотовым на основании писем, полученных от Соломона Михоэлса, привели к ответственности представителей высших эшелонов власти, но в то же время позволили сделать вывод о полном отсутствии дискриминации.¹⁷ Хотя это нельзя рассматривать как систематическую политику, государственный антисемитизм начал расти с первых дней войны и приобрёл свою полную силу в конце 1940-х годов, когда Антифашистский комитет подвергся преследованиям и в конечном итоге был распущен.¹⁸ Можно предположить, что Молотов искренне желал обеспечить материальную помощь еврейскому населению освобождённых регионов. Однако другие высокопоставленные чиновники в основном выражали недоверие и даже враждебность к евреям, используя давно проверенные аргументы, включая представление о гуманитарной помощи как о троянском коне капиталистических держав. Подобные аргументы звучали с первых дней существования режима, когда помощь предназначалась как жертвам голода, так и евреям, пострадавшим от погромов во время гражданской войны. Кроме того, утверждалось, что особое внимание к евреям может пробудить народный антисемитизм — аргумент, который с начала войны активно озвучивали сторонники замалчивания судьбы советских евреев в условиях нацистской оккупации. К этим доводам вскоре добавились предупреждения о «сионистской угрозе».¹⁹ Для иностранных еврейских организаций непрозрачность советских методов казалась особенно подозрительной, поскольку они хорошо знали, что другие национальности — например, поляки и армяне — сумели создать свои собственные сети помощи, управляемые ими через собственных представителей.²⁰ Эти рассуждения, однако, не учитывали сложный вопрос гражданства получателей помощи. Тем не менее, возможно, именно это побудило Михоэлса выступить за создание организации, которая контролировала бы распределение материальной помощи выжившим; в 1943 году он уже предлагал создать агентство, занимающееся поиском евреев, считавшихся пропавшими без вести на советской территории, разыскиваемых родственниками в России и за рубежом.²¹ Важно отметить, что ни одно из этих предложений так и не было реализовано. С точки зрения иностранных доноров начала 1920-х годов, распределение помощи и поиск жертв погромов были тесно связаны из-за непрозрачности информации, предоставляемой советскими властями.²² Тем не менее Комитет заплатил за эту деятельность высокую цену: его связи с зарубежными еврейскими благотворительными организациями, в частности с Американским еврейским объединённым распределительным комитетом, стали одним из оснований официальных обвинений, приведших к казни большинства членов Комитета в начале 1950-х годов.²³Восстанавливающиеся еврейские общины западных регионов СССР,²⁴ ориентированные как на религиозное обновление, так и на материальную солидарность с обедневшими соотечественниками-евреями, в конечном итоге получили часть иностранной помощи, предназначенной для них.²⁵ Вследствие этого советские власти часто подозревали их в использовании этой деятельности в качестве прикрытия для коммерческой деятельности, связанной с подарками от иностранных евреев. Один из читателей отчёта из Житомирской области подчеркнул красным карандашом утверждение о том, что почти каждая еврейская община поддерживала контакт с религиозными американскими евреями, которые присылали им ценные посылки.²⁶ Миссии Администрации ООН по оказанию помощи и восстановлению (ЮНРРА), созданные в Минске и Киеве весной 1945 года, сумели выстроить эффективное сотрудничество с советскими властями, однако их небольшой масштаб и ограничения на передвижение не позволяли им проверять, как созданные советскими учреждения в республиках фактически управляли распределением помощи на местах.²⁷ Объём помощи, оказанной ЮНРРА Украине и Белоруссии, был значительно меньше, чем помощь другим освобождённым европейским странам, но, несмотря на это, она имела решающее значение для населения, в особенности продовольственные поставки.²⁸ Согласно отчётам местных миссий ЮНРРА, продовольствие, отправленное Организацией Объединённых Наций, за исключением хлеба, составляло основную часть товаров, продававшихся в магазинах, отвечающих за распределение нормированных продуктов.²⁹ В начале 1947 года миссия опасалась прекращения этого источника помощи, так как на глазах ухудшались снабжение продовольствием и состояние здоровья населения региона.³⁰ Тушёнка (солонина) была, безусловно, самым архетипичным продуктом среди иностранных продовольственных пожертвований, состоявших в основном из пайков армии США, и Бродский не был одинок в своих ярких воспоминаниях об этом обычном иностранном продукте питания. Среди людей, испытывавших жесточайший дефицит предметов первой необходимости, пожертвованная одежда также вызывала особую жадность и желание. Подобно солонине, но более долговечная, одежда ценилось не только как средство выживания, но и как способ получить доступ к простым западным удовольствиям. Поэтому упоминания о помощи одеждой в официальных публичных выступлениях становились всё реже по мере роста её значимости для получателей.³¹ Обычно её называли «заграничными подарками» или «американскими подарками», однако точное происхождение подаренной одежды редко было очевидным, что говорит о престиже и признании, которые Запад, особенно Соединённые Штаты, получал благодаря своей щедрости. Тем не менее для рядовых советских граждан главной была не история происхождения этих пожертвованных вещей, а возможность их получения. Термин «подарки» (podarki) относился скорее к категории товаров, сочетающих относительное качество и изобилие — резкий контраст с дефицитом и низким качеством советских изделий. Фактически эти вещи иногда называли «американскими вещами». Они воспринимались как минимум того, что могла предложить культура, которая была материально значительно выше, даже если речь шла о подержанной одежде, менее выносливой, чем советская. Эти базовые пожертвования, какими бы желанными они ни были, далеко не компенсировали тяжёлые физические страдания русского народа. Именно этот дисбаланс стал предметом споров: для одних это была оскорбительно низкая цена, которую западный мир был готов заплатить, чтобы скрыть собственную трусость; для других — советский режим, унижавший собственный народ, заставлявший его радоваться дармовой, не имеющей западной ценности одежде. В одном пропагандистском письме молодая девушка восхищалась зелёным платьем с двумя карманами, рассказывая о себе как о ребёнке-жертве войны и дочери ветерана, сражавшегося на фронте.³² Варлам Шаламов с такой же нежностью отзывался об американской одежде,³³ прежде чем продолжить описание счастья «стариков», поглощающих целые бочки американского солидола — промышленной смазки, поставляемой вместе с ленд-лизовскими машинами, которые использовались для транспортировки гор замороженных трупов из ГУЛАГа. Средства, посредством которых эти предметы присваивались советскими гражданами, также подрывали их первоначальное предназначение. Пирамидальная система комитетов должна была обеспечить их справедливое распределение, и эту задачу, как показано, взяла на себя советская администрация. Однако на практике помощь иногда накапливалась на складах, куда в первую очередь обращалась местная знать, как, например, железнодорожные администраторы в Сибирско-Уральском регионе, которые приезжали в сопровождении супруг, прислуги и шофёров и забирали лучшую часть того, что хранилось на складах. После них оставалась лишь одежда в плохом состоянии, неподходящие чулки и бесполезные или неуместные вещи, предполагаемые получатели которых оставались загадкой. Американские подарки, которые в конечном итоге были распределены, встречались не только с желанием, но и с гневом; многие из так называемых «достойных бедняков» выражали негодование и даже отказывались от подарков, которые считались вдвойне оскорбительными как с точки зрения соответствия их потребностям и представлениям о заслуженном, так и с точки зрения уважения к чиновникам и их семьям, которым предоставлялся первый выбор. Новости о скандальном состоянии подаренной одежды получили широкое распространение и повторялись по всему СССР вплоть до Магадана.³⁴Фактически жёны высокопоставленных чиновников в Белоруссии ожидали прибытия сокровищ из Германии, обозначенных как «трофеи» или «репарации», с гораздо большим нетерпением, чем одежды и обуви из ЮНРРА.³⁵ Предметы, содержащиеся в коробках этих двух разных по происхождению категорий — иностранных пожертвований и «трофеев» — хранились, как правило, в одних и тех же местах, но существенно отличались по двум ключевым параметрам: способу их сбора и оценочной стоимости. Действительно, прибытие «трофейного имущества» гораздо ярче отпечаталось в советской памяти, чем помощь, символизирующая солидарность союзников. Эта добыча неразрывно связана с крайним насилием, сопровождавшим оккупацию Красной армией побеждённых стран. Однако поведение советских войск по отношению к гражданскому населению, в частности систематические изнасилования женщин, до сих пор остаётся на Востоке практически непризнанным.³⁶ Местные и региональные госслужащие не были единственными, кто лакомился щедротами, хранившимися на складах, сопровождаемые своими домочадцами. В подобном поведении обвиняли первого секретаря партии в Белоруссии, члена ЦК Пантелеймона Пономаренко. Этот знаменитый вождь партизан в годы войны, по-видимому, без стеснения предлагал лучшее из того, что небрежно хранилось на территории центральной базы Белглавснаба в Минске, руководителям республики либо оставлял себе. Одним из первых и наиболее зрелищных проявлений жестоких разгромов со стороны оккупантов-советов, достигших апогея в Германии, стал разгром Будапешта.³⁷ Хотя в России этому уделялось мало внимания, настоящий погром, проведённый в Восточной Пруссии, и терроризация Берлина советскими войсками по их прибытии в Германию широко известны на Западе. Местные воспоминания, в частности архивные материалы, свидетельствуют о продолжавшейся на протяжении многих лет опасной обстановке для оккупированных гражданских лиц, включая спорадические изнасилования и грабежи, совершаемые отдельными солдатами и группами дезертиров, которые реквизировали женщин, скот и продовольствие по своему усмотрению у напуганных сельских жителей. В то время как советский нарратив о зверствах оккупантов в 1940-х годах всегда связывал нападения на имущество с физическим насилием, здесь они в советской памяти и дискурсе оказались разделены. Это разделение объясняется тем, что физическое насилие против побеждённых народов варьировалось по масштабу и характеру. Насилие воспринималось как материальные повреждения не только из-за их совместного возникновения, но и из-за специфического отношения к телам вражеских женщин, поскольку призыв к уничтожению каждого немца исчез из советской пропаганды. Преобладала идея, что присвоение имущества и активов побеждённых было оправдано грабежами, которым подверглось советское население в ходе войны, — справедливость, подкреплённая глубоким шоком, который испытали советские люди, пересекавшие границу в побеждённые страны, которые, хотя и находились в руинах, были очевидно более процветающими, чем их собственная страна. Советские власти также верили — или хотели верить — что видят прямой результат грабежей, совершённых немцами на советской земле, от скота³⁸ до трамваев и ценных предметов, найденных в квартирах бывших оккупантов.³⁹ Данная точка зрения оправдывала самозащиту и не рассматривалась как простая слепая месть, что также легитимировало уничтожение имущества врага.⁴⁰ Хотя разрушительные действия и физическое насилие над населением, особенно женщинами, не обсуждались публично в СССР и остаются в тени до сих пор, это не касалось конфискации имущества, включая личное имущество жителей побеждённых территорий. В то время как и сегодня, присвоение военных трофеев считалось как законным, так и безвредным.⁴¹ Для советского старшего офицера наручные часы были типичным примером такой добычи, и в свидетельствах часто упоминалось, что не было редкостью видеть солдата с несколькими часами на руке. Терпимость к таким очевидным доказательствам кражи у врага отражала значение, придаваемое этому явлению: не только из-за редкости часов в СССР и их лёгкой продажи после возвращения солдата домой, но и из-за допускаемой навязчивости в отношении вражеского имущества.⁴² Частое ношение нескольких часов, даже неработающих, и иногда на обеих руках отражало отношение к немецким женщинам, возраст и физическое состояние которых казались неважными для солдат, совершавших над ними насилия. Популярность велосипедов — всё ещё редких в СССР — служит иллюстрацией лёгкости, с которой трофеи приобретались и демонстрировались. Даже советские граждане из привилегированных слоёв не умели ездить на велосипеде, но не стеснялись показывать свою неуклюжесть. Все знали, что приобретение таких вещей могло быть связано с насилием или убийством, и образ советских людей, восторженно осваивающих езду на велосипедах, часто упоминался побеждёнными народами как символ варварства, контрастирующего с жестокими действиями тех же солдат.⁴³ Советский дневникописец Владимир Гельфанд использовал это несоответствие в своих целях: на следующий день после обучения езде он почувствовал себя достаточно свободно, чтобы обратиться к изнасилованной немке и её матери; женщина просила защитить их от соотечественников, на что он вежливо отказал.* ⁴⁴ Позже, одетый в элегантный гражданский костюм, вероятно, сшитый в Германии, он сфотографировался, катаясь на велосипеде — редкий случай среди современников. Этот снимок свидетельствовал о его ловкости и символизировал новое осмысление его стремления к предметам. Хотя камеры с 1920-х годов восхвалялись в советской пропаганде, на деле они были редкостью и считались ещё более ценным трофейным предметом, чем велосипеды или часы, воспринимаемые как практичные вещи.⁴⁵ Камеры открывали владельцам новую культурную практику и приносили большое удовлетворение интеллигенции, которой повезло их получить.⁴⁶ Молодой Гельфанд получил свою камеру в январе 1946 года, вероятно, на чёрном рынке Александерплац в Берлине, где различные товары обменивались более или менее скрытно.⁴⁷ Во время длительного пребывания в Германии он использовал камеры как товар для обмена, но в итоге научился ими пользоваться и пытался приобрести материалы для проявки собственных фотографий.⁴⁸ Затем он стал делать портреты своих женских завоеваний, а также снимки людей, городов и пейзажей, через которые путешествовал.⁴⁹ Эта новая страсть начала постепенно заменять ему дневник.⁵⁰ Радиоприёмник, фонограф и пишущая машинка также пользовались спросом у советских граждан, которые в значительной степени разделяли культурную вселенную Запада — чувство общих ценностей, помогавшее им меньше беспокоиться о точных обстоятельствах приобретения таких предметов.⁵¹ Трофейные товары, помимо своей функции компенсации, предоставляли доступ к миру, породившему современную культуру, к которой стремились все советские люди — как руководители, так и простые граждане. В результате напряжённость между политической моделью сталинского СССР и материальными стремлениями граждан породила сложности, влекущие за собой ограничения на доступ к предметам, конфискованным у врага. Эти товары, вытекавшие из жажды мести войск и общего стремления компенсировать лишения населения, всё ещё обнищавшего вследствие грабежей и тягот войны, также представляли риск разжигания массового неповиновения и опасного увлечения западной цивилизацией. Тем не менее, по крайней мере на раннем этапе, советские лидеры, по-видимому, поощряли и в определённой мере помогали организовать это приобщение к западной материальной культуре, стараясь при этом сохранить стратифицированный доступ к ней. 26 декабря 1944 года, когда Красная армия приближалась к германской территории, был издан указ, разрешавший солдатам ежемесячно отправлять посылки с фронта. Вес посылок зависел от воинского звания: пять килограммов для рядовых, десять — для офицеров и пятнадцать — для генералов.⁵² Этот указ воспринимался как открытое приглашение солдатам захватывать всё, что они могли, а также как отражение германской политики того времени, разрешавшей солдатам Красной армии и другим гражданам Германии на оккупированных территориях отправлять почтовые посылки. Несмотря на моральное неодобрение указа, один советский офицер в своём дневнике оправдывал его, отмечая, что «каждому немецкому солдату разрешалось ежемесячно отправлять домой посылку весом шестнадцать килограммов с захваченных территорий».⁵³ Взрывной рост числа посылок, последовавший за этим указом, неизбежно превысил возможности почтовой службы; например, в Курске сотрудники были специально назначены для обработки посылок с фронта.⁵⁴ Позже разрешённый ежемесячный лимит посылок сократили, но он так и не соответствовал спросу, вынуждая солдат прибегать к различным хитростям. Обычные посылки, отправляемые членам семьи через почтовую службу или иными каналами, стали настоящим обязательством для солдат, оказавшихся за границей. Мать Гельфанда даже делала заказы на взрослую и детскую одежду и другие ценные вещи, добавляя, однако, что сын должен быть осторожен, хотя значительная часть их переписки касалась именно таких просьб.⁵⁵ Эта либеральная политика относительно индивидуальной передачи имущества побеждённых народов в советские дома не изменилась с прибытием первых крупных волн репатриантов — бывших советских заключённых, демобилизованных солдат и гражданских лиц, которым летом 1945 года была предоставлена таможенная амнистия. Объёмы багажа возвращающихся солдат, перевозимого на специальных поездах, достигли, по-видимому, эпических размеров. Один рассказ о военном ветеринаре, возвращавшемся в Узбекистан в сентябре 1945 года из Вены с почти тонной багажа, который, как и многие другие, наверняка был ограблен по прибытии местными властями, ярко иллюстрирует эту тенденцию.⁵⁶ Приобретение товаров в оккупированных зонах через чёрный рынок или магазины было облегчено проницаемостью границ. В дневнике Гельфанда Берлин представлен как эпицентр его желаний — из-за чёрного рынка на Александерплац и плотной концентрации торговли возле бывшего Рейхстага.⁵⁷ Однако на самом деле чёрный рынок Берлина охватывал практически каждую улицу, дом и подворотню, каждое кафе, наполненное нищими и возможностями обмена предметов и продуктов на деньги и бартерные товары. Даже попытки советских властей искоренить эту торговлю, например на Александерплац, по-видимому, не увенчались успехом. В ноябре 1945 года Гельфанд, под предлогом чистки сапог, привлек массу продавцов, скрывавших товар под одеждой. Пока чистильщик натирал обувь воском, он приобрёл рубашку, кожаную куртку, несколько пар носков и перчаток прямо у советских патрулей, следивших даже за действиями офицеров.⁵⁸ Институционализированная передача трофеев, захваченных у врага и позднее оформленная в политику репараций,⁵⁹ предоставила возможность индивидуальным советским гражданам — по крайней мере некоторым — приобретать трофейное имущество, в то время как власти, ответственные за систематический сбор трофейных активов, регулировали его распределение старшими офицерами. Так, начиная с июня 1945 года, генералы Красной Армии получали автомобили бесплатно, а рядовые офицеры — велосипеды или мотоциклы. Генералам также разрешалось приобретать вертикальные или рояльные пианино, радиоприёмники, охотничьи ружья, наручные, карманные или маятниковые часы. Они могли за плату получить ковры, гобелены, меха, чайные сервизы, камеры и другие ценные вещи.⁶⁰ Возможность приобретения трофейного имущества была явным привилегием, позволившим Гельфанду приобрести радиоприёмник за 400 марок, в то время как на открытом рынке в Берлине его цена была в десять раз выше.⁶¹ Оккупация побеждённых стран предоставила разрешённый доступ к уровню роскоши, фактически организованному правительством, что усиливало социальные иерархии в советском обществе. Служба на иностранной территории, будь то в гражданском статусе или в качестве солдата, сама по себе являлась преимуществом, независимо от звания, однако для элиты, которая не скрывала своей удачи, власти резервировали лучшие предметы. Диссидентка Лариса Богораз отмечала, что в непосредственный послевоенный период дочери генералов, служивших в Германии, носили платья, резко отличавшиеся от других по тканям и узорам, которые их отцы присылали из Берлина. Она заключила: «Это был послевоенный вкус — новые платья, вырезанные из роскошных западных тканей». Привилегия была тем более заметна, что включала не только материал, но и крой платья, делавший их похожими на «молодых немецких девушек», сходство, считавшееся уважаемым и даже вызывавшим зависть.⁶² Богораз также зафиксировала, что её дядя, генерал, служивший в Германии, привёз ей куски ткани. Открытое присвоение моды и культуры завоёванных народов было широко распространено в послевоенном СССР и, как предполагается, поощрялось Кремлём, что подтверждается демонстрацией трофейных фильмов. Культурное открытие, связанное с войной, было эклектичным, позволяя американским культурным элементам соседствовать со стилями старой Центральной Европы.⁶³ Особенностью этого явления было его повсеместное распространение во всех слоях советского общества, особенно среди молодого поколения, несмотря на географические, социальные и культурные дистанции, отделявшие обычных граждан от городских центров, где концентрировались импортируемые с Запада одежда, мода и музыка. Толерантность советских властей к краже вражеского имущества или возможность для лиц различных рангов импортировать иностранные товары составляли лишь один аспект массовой материальной передачи из побеждённых стран, особенно из Германии, в СССР. Масштаб этих процессов мог подорвать социальный и политический порядок, восстановленный администрацией Сталина на освобождённых территориях, создавая проблемы с неправомерным присвоением, чёрным рынком и неконтролируемым оборотом по всей стране.⁶⁴ Эта торговля стимулировала развитие сетей, типичных для подпольной советской экономики. Некоторые лица выходили за рамки личного потребления трофеев, распространяя нелегальную торговлю. В конце 1946 года тамбовская милиция конфисковала 4 622 единицы меха у ветерана и бывшего офицера, украденных из магазина в Берлине, который намеревался продать их в Москве. Другой ветеран, вернувшийся из Германии на автомобиле в октябре 1946 года с багажником, полным трофеев, позже продал их своему шурину и был арестован весной 1947 года.⁶⁵ Хотя циркуляция трофеев достигла беспрецедентных масштабов, она вышла на новый уровень с началом поставок, являвшихся частью советской политики репараций. Грузы прибывали по суше и морю, загружались на целые поезда, распределявшиеся по всем уголкам СССР. Складские и транспортные помещения охранялись недостаточно, а учёт содержимого не был систематическим. Кражи из поездов и складов стали серьёзной проблемой — в январе 1947 года МВД предложило создать межведомственную комиссию для борьбы с этим.⁶⁶ Кражи совершались как отдельными лицами, так и вооружёнными бандами, а также сетями чиновников, отвечавших за транспортировку и хранение добычи. Так, сеть торговли трофейными товарами на складе в Новосибирске была раскрыта в начале 1947 года; несколько роялей, комодов и маятниковых часов украшали дома местных администраторов, которые приобрели их по бросовым ценам, хотя изначально они предназначались для компенсации заслуженным гражданским служащим.⁶⁷ Кража социалистической собственности оставалась постоянной проблемой, и в июне 1947 года ужесточили наказания за подобные преступления. Кремль остро осознавал масштабы массовых хищений как индивидуальной, так и общественной собственности, несмотря на продолжающееся обнищание и риск голода. Особое беспокойство вызывало присвоение ценных поставок из иностранных источников, считающихся государственной собственностью. Различные факторы — экономические, организационные, патронажные — усугубляли проблемы, включая рост коррупционных сетей и отсутствие централизованного контроля распределения трофеев. Тем не менее администрация Сталина использовала периодические антикоррупционные кампании для устранения проблемных чиновников.⁶⁸ Вероятным примером такой чистки стал скандал в Белоруссии, где первый секретарь партии Николай Гусаров обнаружил хищения двадцати семи тысяч трофейных коров в 1945 году. Белоруссия, сильно пострадавшая в войне, столкнулась с особенно вопиющей коррупцией, учитывая, что более 150 000 обнищавших колхозных семей не имели ни одной коровы. Безразличие чиновников к страданиям подопечных свидетельствовало об утрате коллективной культуры животноводства и преобладании личных патронажных интересов, обслуживавших собственный «среднеклассовый» статус.⁶⁹ Присвоение коров, критически необходимых для выживания миллионов советских семей, было не только широко распространено, но и ярко свидетельствовало об отсутствии у чиновников сочувствия к страданиям сограждан. Хотя логику их равнодушия можно объяснить стремлением к прибыли и желанием сохранить политическую базу, интересно рассмотреть их действия как форму протеста, по крайней мере в некоторых случаях, против приоритетов, установленных центральной властью. Такое неповиновение официальной иерархии со стороны как героев, так и жертв войны иногда усиливалось на местном уровне благодаря глубокому, интимному знакомству, возникшему в результате совместного переживания военных событий. Случай некоего Грына, председателя сельсовета в украинском Николаевском регионе, иллюстрирует эту гипотезу. Грын забрал себе трофейную корову у семьи, которой она была выделена в качестве награды за службу двух членов семьи на фронте. Предлогом послужило то, что немцы конфисковали его собственную корову во время оккупации. Он также конфисковал у демобилизованных солдат, которых обвинял в сотрудничестве с полицией, их награды и документы, предоставлявшие доступ к определённым привилегиям.⁷⁰ Иного рода критика возникала в случаях, когда аморальность присвоенного трофея объяснялась не несправедливостью по отношению к жертвам войны, а чрезмерной жаждой роскоши. Такие обвинения раскрывают фантазийное представление о безграничных возможностях накопления богатств, принадлежавших побеждённому врагу. Случай двух высокопоставленных чиновников администрации оккупированной Германии иллюстрирует эту страсть к роскоши. После признаний, полученных Виктором Абакумовым — бывшим начальником контрразведки и главой госбезопасности, стремившимся дискредитировать своих соперников перед Сталиным, — они были отстранены от должностей.⁷¹ Особенность этого дела — в достоверности информации для Абакумова и Сталина. Количество немецких предметов, найденных при обыске квартир обвиняемых, поражало: более 3 000 метров ткани, 8 чайных сервизов и прочих наборов из примерно 1 470 предметов, 315 ценных антикварных изделий (статуэтки, вазы), 90 серебряных предметов, 41 ковёр (включая длинные коридорные), 15 картин, 359 предметов женского нижнего белья, свыше 150 пар обуви и кожаных изделий, почти 60 платьев, 17 костюмов, 22 пальто и меха, 323 пары чулок, 6 радиоприёмников и радиофонографов, а также 4 аккордеона. Такие бесконечные списки скорее напоминают склад, чем роскошно обставленную квартиру, а конечное назначение этих товаров так и осталось неясным. В документах лишь иронично упоминается возможная перепродажа. Центральным элементом обвинений была обменная стоимость украденного имущества, однако она не полностью объясняла объём трофеев, несмотря на свидетельства подозрительных практик. Иван Серов якобы предлагал радиофонограф маршалу Жукову, золотые часы жене американского генерала в Берлине, а два чайных сервиза и охотничье ружьё — подчинённому Сидневу, но всё это лишь малая часть присвоенных трофеев.⁷² Логистика транспортировки такого объёма добычи в СССР была не менее впечатляющей. Известны случаи заказа Жуковым самолётов для этой цели и другие махинации, которые, однако, так и не были расследованы или доказаны. Серов якобы организовал для своей выгоды «карусель» из поездов, автомобилей и самолёта, курсировавшего между Берлином и Москвой с мехами, коврами, картинами и другими ценными предметами.⁷³ За редким исключением, описания предметов остаются лаконичными и повторяющимися, сосредотачиваясь на бесполезном личном использовании вместо служения стране. Предметы, символизировавшие «дьявольское превосходство Германии», такие как радиофонографы, которые Серов якобы заказал у известного немецкого мастера, были изготовлены из мебели личного кабинета Гитлера. Известно мало о вкусах советских воров, в частности, какие картины они предпочитали красть у немецких магнатов 1940-х годов, конкурируя с специализированными бригадами, действовавшими на территории побеждённых стран.⁷⁴ Также неизвестна конечная цель краж — личное пользование или перепродажа на чёрном рынке СССР. Эти вопросы остаются неразгаданными. Аналогично неизвестен стиль мебели, упомянутой в докладе, осуждавшем заказы советских генералов и офицеров на «стильную мебель» у немецких фирм класса люкс для оформления московских квартир и дач. Это свидетельствует, что отношения высших администраторов с материальным миром врага выходили за рамки хищений, предоставляя им свободу от аскетизма и отсутствие эстетического выбора, навязанных советской системой ценностей. Образ жизни, подвергнутый критике, едва ли сейчас кажется необычным, кроме элегантных частных приёмов и охотничьих вечеринок, которые, как известно, не были строго запрещены.⁷⁵ Обвиняемые якобы приняли «барский» образ жизни в оккупированной Германии, резко противоречащий советской морали. Источники происхождения товаров часто не указывались, поскольку они брались со складов, представлявших собой настоящие «пещеры Али-Бабы», распределённые по всему Берлину и советской зоне. Бывшие владельцы не вызывали жалости — это были бывшие «шишки» нацистского режима. Грех обвиняемых состоял в том, что они скользнули в образ жизни прежних владельцев, занимая их реквизированные виллы, а не в исчезновении с содержимым. Обвинения не касались лиц, которым официально предназначались присвоенные предметы роскоши. Один следователь, ссылаясь на гобелены XVII–XVIII веков, осуждал Сиднева за присвоение их для ленинградской квартиры: «Место этим гобеленам — только в музее!». Границы допустимой роскоши, даже в советских элитных интерьерах, по-видимому, были превышены. Серов, хотя и был прямо инкриминирован в показаниях своих сотрудников, не стал объектом расследования и продолжал занимать свою высокую должность. Однако по крайней мере двое его сотрудников были арестованы в конце 1947 и начале 1948 годов и приговорены к десяти годам лагерей в октябре 1951 года.⁷⁵ Быстро реабилитированные после смерти Сталина, они раскрыли другую правду. Объясняя, как были фальсифицированы инвентаризации, они между строк передали неполноценность отечественных продуктов. Во время рейдов люди Абакумова включали в инвентарь товаров, якобы неправомерно присвоенных из Германии, объекты, фактически изготовленные в Советском Союзе, а также предметы из никеля, сплава или платины вместо золота и серебра — материалов, одновременно считающихся благородными и презренными. Реабилитированные мужчины не отрицали, что обладали многочисленными неиспользованными предметами, однако признавались в безумных покупках, совершённых в Германии. Более конкретно, это были их жёны (а также племянницы или дочери), которые искали различные места в оккупированной зоне, где за скромные цены продавалось огромное количество товаров, не обладающих особой ценностью (хотя в СССР были почти недоступны или чрезвычайно дороги), включая чулки, бельё (мужское и женское), дешёвые декоративные предметы и безделушки. Было множество возможностей найти и совершить полностью легальные сделки — от магазинов «Военторг», зарезервированных для высокопоставленных советских граждан, до прямой продажи имущества бывших нацистов немецким и советским лицам. Один из мужчин также обвинил жену в незаконной транспортировке товаров из оккупированных вилл Германии в Москву. Присвоение ресурсов оккупированной Германии часто возлагалось на жён и родственниц высокопоставленных офицеров, которые явно не разделяли советскую мораль, представляемую их мужьями, занятыми службой. Оба мужчины выражали отвращение к этому безумному накоплению, описывая «болото», в которое их затащили жёны, не обладавшие достаточным образованием, чтобы противостоять «вредоносной буржуазной среде» побеждённой Германии.⁷⁶ В этих утверждениях, вероятно, содержится доля правды, что объясняется господствующей советской риторикой и ценностями, которые традиционно обвиняли женщин в сохранении дореволюционных ценностей, включая влечение к излишествам материального богатства. Тем не менее эти мужчины, по-видимому, были способны использовать свою власть для присвоения определённых предметов или размещения заказов у престижных немецких производителей, даже если товары предназначались главным образом для женщин — супруг или любовниц — что стало ещё одной повторяющейся связью с этим стремлением к предметам, противоречащим социалистическим моральным нормам. То, что они не смогли вернуться в партию несмотря на неоднократные апелляции и реабилитацию, объясняется — помимо десталинизационных перипетий — ужесточением хрущёвского периода в отношении личного обогащения и буржуазного поведения. Следует напомнить, что эти «паразиты» были выдвиженцами, высокопоставленными офицерами, вступившими в партию и мобилизованными для защиты нации и революции, в том числе на территории оккупированной Германии. Они утверждали, что были испорчены деньгами, ссылаясь на крупные надбавки, которые получали во время службы в советской зоне, соответствовавшие статусу выдающихся служащих советского правительства. Комбинация внезапного богатства — привычного, но не упоминавшегося в сталинских обвинениях — и лёгкого доступа к западным товарам вызвала настоящий культурный шок для ценностей и практик этого слоя советского общества. Это привело к внутренней революции, хотя сложность отделения правды от лжи в обвинениях затрудняет точное определение их морального характера и последствий. Скрытые довоенные советские сокровища
Примитивный характер обвинений, выдвинутых против советских чиновников, проявлявших компульсивное поведение по отношению к продуктам капитализма — будь то в контексте партийной аскетической морали или реальности обнищавшего общества, — в конечном итоге вытекает из той дихотомии, предложенной Бродским. С одной стороны, стоял однородно серый Советский Союз, с другой — иностранные объекты, от самых простых до изысканных, открывавшие ранее неизвестный мир для советского послевоенного общества, будь то мир, связанный с освобождающей культурой, изобилием или небывалой роскошью. Проблема такого нарратива заключается в том, что он затемняет существование «неизвестного» мира довоенного СССР и сложную природу тех объектов, которые он воплощал. Эти предметы были доступны ограниченному кругу привилегированных членов общества в конце царского периода. Их значение было обновлено из-за неравномерности производства советских промышленных товаров и импортных иностранных изделий, и они активно циркулировали на разных уровнях урбанизированного советского общества. Советские власти, естественно, играли ключевую роль в этой циркуляции, экспроприируя и перераспределяя имущество бывшей элиты, прежде чем государственные органы начали массово изымать всё ценное у отдельных советских граждан. Центральные власти особенно стремились заполучить золото, серебро и драгоценные камни, а в конечном счёте — любые ценные объекты, которые могли быть превращены в иностранную валюту, необходимую для доступа к западным материалам, полезным для быстрого индустриального развития СССР. Исследование Елены Осокиной о создании Торгсина — сети магазинов, открытых накануне великого голода 1933 года для приобретения иностранной валюты, — демонстрирует, насколько стремление к ценным предметам превзошло распродажи императорских коллекций и церковного имущества за границей, начавшиеся в 1920-х годах. Старые монеты царского периода или эпохи Керенского, накопленные крестьянами, серебряные чайные ложки и семейные драгоценности среднего класса обменивались на хлеб в магазинах Торгсина, что облегчалось тем, что их можно было переплавить в слитки или разобрать для продажи за рубеж. Уничтожение материального наследия, независимо от вопросов социальной справедливости, считалось несущественным; единственной ценностью этих предметов прошлого была сумма, которую иностранные покупатели были готовы заплатить за лучшие из них.⁷⁷ Огромная операция по разграблению советского богатства, осуществленная оккупационными силами — от музейных коллекций до домашнего имущества частных лиц — осуждалась теми же силами, которые проводили аналогичные акции менее чем десять лет назад. Жажда предметов в домах частных лиц, всегда воспринимавшаяся подозрительно в советском контексте, и её коррелят — неистовая тяга к предметам у населения, лишённого материальных благ и страдавшего от дефицита, — находят своё отражение в магических шоу Воланда на сцене московского театра 1930-х годов, как описано Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Воплощение Дьявола иностранного происхождения (намёк на немецкую идентичность) буквально разоблачало публику, которая «едва изменилась», несмотря на появление автобусов, телефонов и других признаков технического прогресса, делающих столицу трудноузнаваемой. Его помощник Фагот, создавая на сцене дамский модный бутик, объявляет, что старые платья и устаревшие туфли, носимые женщинами из аудитории, будут охотно обменены на последние парижские творения, вызывая волну женщин, бросающихся на сцену без малейшего притворства, чтобы воспользоваться этой неожиданной удачей.⁷⁸ Немного позже в истории один из персонажей видит кошмарный спектакль, где художник в смокинге приглашает его выйти на свет прожекторов и обнаружить, под улюлюканье аудитории, спрятанные в его квартире доллары — честного советского гражданина. Затем нападают на другого зрителя — Сергея Герардовича Дунчиля — за «упрямое нежелание отдать валюту, которая у вас есть, пока страна нуждается в ней, а вам она совершенно не нужна». Его любовница, Ида Херкулановна Ворс (подчёркивая иностранный оттенок имён), появляется с пакетом из восемнадцати тысяч долларов и бриллиантовым ожерельем стоимостью сорок тысяч золотых рублей на золотом подносе, которые её неверный муж спрятал в её квартире в Харькове. Зрителей призывают сдать свою иностранную валюту, которой они не должны были обладать, пока армия поваров подаёт суп и чёрный хлеб.⁷⁹ При публикации романа в СССР в 1966 году, после смерти Сталина, эти фрагменты были подвергнуты цензуре, вероятно из-за их комментариев о советской человечности за пределами капризов сталинизма — человечности, превращённой в гротеск страха перед своими хозяевами, одержимыми поиском скрытых сокровищ в провинциальных квартирах, и неугасимым влечением ко всему иностранному, а значит, дьявольски желанному. Советы 1930-х, изображённые Булгаковым, не были невежественны в отношении западной культуры — напротив, они были движимы материальными желаниями, которые режим клеймил как грех и, следовательно, превращал в мучения. Анализ инвентаризаций, которые советские граждане на оккупированных территориях — будь то оставшиеся дома или эвакуированные,⁸⁰ — были приглашены подавать с конца 1943 года для оценки убытков, причинённых врагом, подтверждает, что накануне войны и после двадцати лет советского правления материальный мир некоторых граждан был явно омрачен мещанскими вкусами, описанными Булгаковым. Это также указывает на то, что они не ждали потока иностранных товаров, принесённых войной, чтобы приобщиться к западным культурным практикам. Наиболее удивительным является тот факт, что они предлагали такие подробные описания в первую очередь. В очевидном парадоксе уничтожение и кража имущества миллионов советских домохозяйств врагом подчёркивали реабилитацию материального комфорта и, в процессе, частной собственности, инициированную Сталиным в 1930-х годах. Советское правительство в рамках широкого расследования преступлений оккупационных сил и материальных убытков, за которые они были ответственны, пригласило жителей оккупированных регионов заявлять обо всём украденном или уничтоженном имуществе.⁸¹ Нормативный дискурс, касавшийся объектов, преобладавший до войны, ослабел в новом контексте настолько, что некоторые из заявлявших о потерях, несмотря на огромную бедность подавляющего большинства сограждан, раскрывали владение имуществом и предметами — мебелью, одеждой, музыкальными инструментами, — свидетельствовавшими о вкусах, значительно отличавшихся от официальной этики, какой бы изменчивой она ни была в межвоенный период. Однако в большинстве случаев именно скромность списков в конечном итоге — и, возможно, предсказуемо — была их самой поразительной чертой. Здесь необходимо различать сельские и городские инвентаризации. В сельских заявлениях наибольшее значение придавалось зданиям (дому и иногда прилегающим постройкам — амбарам, складам), скоту, а прежде всего корове, а также запасам продовольствия. Почти ничего не заявлялось по мебели, посуде или одежде, хотя иногда упоминались сундуки или рулоны ткани. Отсутствие обычных потребительских товаров можно объяснить разными причинами, но в большинстве случаев, вероятно, это свидетельствовало о крайней материальной бедности сельских советских граждан. Это предположение встречается в нескольких отчётах, но не подвергалось систематическому изучению и связано с поведением в условиях войны, смысл которого остаётся предметом значительных историографических дебатов. Примитивный характер сельских интерьеров отмечался, например, диссиденткой Ларисой Богораз, которая, будучи молодой и очень бедной москвичкой, уехала преподавать в Калужскую область в начале 1950-х годов. Она вспоминала, как часто прощала няню за кражу ложек или чашек, поскольку алюминиевая ложка или стакан для жителей деревни были настоящей иностранной роскошью.⁸² Хотя её рассказ отражает послевоенную жизнь сталинской эпохи, его можно применить и к более ранним десятилетиям. В конце 1920-х годов сатирики Илья Ильф и Евгений Петров с юмором отмечали, что число стульев в СССР отсутствует в статистике. Они грубо рассчитали это, вычтя крестьян из общего населения, подчёркивая известную истину: огромный материальный и культурный разрыв между крестьянством и городской цивилизацией.⁸³ Сосуществование этих двух миров имело драматический эффект через десять лет, когда сельская бедность выразилась в военной жажде предметов. В частности, активное участие местного населения в массовом убийстве евреев под оккупацией можно рассматривать как стремление присвоить их имущество — от одежды до мебели. Городские жители также участвовали в перераспределении скромных владений евреев, что стало литературным тропом, например в письме матери Виктора Штрума, центрального персонажа романа «Жизнь и судьба», своему сыну незадолго до её убийства. В письме описано, как её соседи из Бердичева в первые дни оккупации выгнали её из комнаты и украли диван, предрекая её скорую гибель.⁸⁴ Хотя мать Штрума, врач, владела элементом относительного комфорта, многие горожане заявляли лишь о наличии стола, нескольких стульев, одной или нескольких кроватей и иногда шкафа. Анна Фёдоровна Чудова, эвакуированная, работавшая на конфетной фабрике в Куйбышеве, до войны мойщица посуды в Могилёвской больнице за скромную зарплату в 100 рублей в месяц,⁸⁵ заявила о наличии шкафа, «английской кровати», пяти стульев и стола. Её одежда включала пальто, три платья, пару туфель на высоком каблуке и нижнее бельё, описание которого она не утруждала. Пальто, оценённое в 15 000 рублей, было самым ценным предметом, тогда как шкаф оценивался лишь в 1 000 рублей. Владение велосипедом, оценённым также в 15 000 рублей, казалось роскошью, которую она, как одинокий человек, могла себе позволить.⁸⁶ Тем не менее, по мере роста значения утраченного национального наследия описания становились всё более точными и начали включать материалы, из которых были изготовлены предметы, а также демонстрировать более широкий ассортимент мебели, бытовых предметов, одежды, белья и объектов, связанных с культурными практиками. В этой тенденции можно увидеть отражение понятия «культурности» — распространённого в сталинской риторике 1930-х годов, обозначавшего всё, связанное с немецкой культурой (Kultur), то есть с различными областями знаний и образом жизни, чьё освоение считалось необходимым для выхода из состояния отсталости, обычно ассоциируемого с крестьянством. Культурность часто выражалась через одежду и реабилитацию буржуазных манер, а также отражалась в интерьерах, напоминающих жилища европейского среднего класса XIX века.⁸⁷ Доступ к образу жизни, соответствующему культурности, можно было измерить наличием объектов, указывающих на современный дух и культурные интересы их владельцев, таких как велосипед, фотоаппарат, радио или граммофон. Это касалось как визуальных представлений для широкой публики, так и весьма строгих статистиков, изучавших бюджеты советских домохозяйств.Другие, более классические предметы также положительно реинтегрировались в материальный горизонт советских граждан, например, пианино. Происхождение таких предметов становилось проблемой в случае старых объектов из-за трудностей с наследованием в сталинском обществе, где буржуазное происхождение оставалось препятствием, а быстрая социальная мобильность была фундаментальной ценностью режима. В рамках инвентаризаций, ограничиваясь маркерами, обозначающими уровень культурности, парадоксально встречались социальные сферы, отсутствующие в официальном описании советского общества. Вдали от стахановцев на заводах — целевой аудитории подобной продукции — можно было представить профессиональные слои с высокой специализацией, а также, вероятно, семейное наследие, как в плане практик, так и материальной передачи.⁸⁸ Хотя трудно полностью реконструировать специфические социальные характеристики владельцев, инвентаризации позволяют видеть эти «культурные предметы» в контексте других компонентов материального быта, предоставляя достаточно информации для представления реальной жизни отдельно от пропагандистских образов, на которые историки вынуждены были опираться ранее. Следует помнить о возможности идеологического фильтра при составлении инвентаризаций — нормативная рамка их авторов была неоднородной, и нельзя точно определить, связано ли это с искренностью составителей или наложением нормативных моделей, из которых сталинская культурность была лишь одним аспектом. Во-первых, хотя владельцы культурных объектов несомненно принадлежали к интеллектуальным профессиям, граница между городским и сельским образом жизни могла быть размыта. Это отражает провинциальный климат, позволяющий жителям разных социальных слоёв обходить социалистические строгости, владея несколькими головами скота, садом или огородом. Например, до эвакуации в Куйбышевскую область житель Калинина (ныне Тверь) Яков Павлович Козлов скрупулёзно описал потери, вызванные неспособностью продать урожай вишни, огородную продукцию и мёд во время оккупации. Эти ресурсы, вероятно, находились близко к дому, которым он полностью владел, возможно, на окраине города. Среди утраченного имущества он указал пианино марки «Вольфрам Гроссман» и библиотеку из трёхсот томов — энциклопедии, классической литературы и трудов по русскому языку и математике. Свидетелем инвентаризации был учитель средней школы из того же города, что предполагает, что Козлов был профессором, который заботился о зеркальном ореховом и махагоновом гарнитуре, столе с самоваром, серебряных приборах, чайном сервизе из двадцати четырёх предметов и фарфоровой посуде. Его одежда включала пальто с астраханским воротником и шерстяное пальто с меховым воротником, а жена сожалела о потере двух платьев из крепдешина, возможно, сшитых на домашней швейной машинке «Зингер».⁸⁹ С другой стороны, профессия Ефима Савельевича Савина не указана, но известно, что он был эвакуирован из нового промышленного района Ленинграда — Сланцевых рудников. В свободное время он содержал несколько голов скота — корову, двух овец, двух коз, пятнадцать кур и семь ульев — и имел активы, типичные для современного городского образа жизни: велосипед, две швейные машинки и граммофон с несколькими альбомами. В его доме, которым он также полностью владел, находились часы и два зеркала.⁹⁰ Поиск «культурных» предметов в инвентаризациях советских граждан — будь то объекты довоенной культуры, включая пианино и другие музыкальные инструменты, или новаторские практики межвоенного периода — фотоаппараты, радио, граммофоны — прежде всего демонстрирует удобства интерьеров, которые можно назвать «социалистической буржуазией». Эти интерьеры отличались от жилищ высокопоставленных чиновников, чьи удобства полностью обеспечивались государством и, следовательно, могли меняться в зависимости от чисток и официального неодобрения, соответствуя аскетической эстетике. Это было тем более характерно, что такие чиновники должны были полностью посвятить себя делу социализма и, по идее, не имели свободного времени или досуга. Фактически они представляли профессиональные слои с высокими доходами, обеспечивавшими доступ к материальной среде, отличавшейся разнообразием стилей, благородными материалами и уровнем утончённости, который можно было усмотреть между строк их инвентаризаций. Их имущество раскрывает сложные контуры социальной среды специалистов (спецов) — высококвалифицированных работников, которые поочерёдно подвергались нападкам режима как «отголоски бывших» (пережитки дореволюционной элиты), и одновременно привлекались как члены нового класса, обученного в советских институтах, но постоянно находившегося под угрозой идеологических перемен. Подробная инвентаризация Евдокии Самойловны Янтовской, довоенной жительницы Днепропетровска, ярко иллюстрирует такой сдвиг, отражённый в описании её прежнего богатства. Она призналась, что зарабатывала комфортный ежемесячный доход в 2000 рублей как штатный преподаватель немецкого языка в институте иностранных языков до войны, дополнительно преподавая в других учреждениях города. Муж её, мастер на Коксохимическом комбинате, тоже, по всей видимости, имел высокий доход, хотя она не уточняла его размер. Мать Янтовской вносила вклад, обучая вышивке. Таким образом, трудолюбивая семья могла, по её словам, «жить хорошо и культурно» — термин, популярный в то время, — хотя обширный список утраченного имущества «разграбленного немцами» в дальнейшем отошёл от сталинских норм в ряде аспектов. Музыка играла важную роль в доме — высококлассное пианино, изготовленное в Дрездене, вероятно, служило не только декоративным элементом, поскольку в доме хранился набор японских бамбуковых полок с партитурами опер «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Русалка», вальсов и мазурок Шопена, рапсодий Франца Листа, сонат Людвига ван Бетховена, альбомов современных композиторов, а также цыганских романсов и песен других репертуаров. В доме хранилось всего восемь граммофонных альбомов, некоторые иностранного производства, для граммофона английской марки. Семья была читающей — их библиотека включала полные собрания сочинений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Николая Некрасова, Фёдора Достоевского, Александра Куприна, Льва Толстого, Генриха Гейне, Иоганна Гёте, Фридриха фон Шиллера и Ги де Мопассана,⁹² а также учебники и техническую литературу. Картины великих мастеров отсутствовали, однако имелась репродукция известной картины Ивана Шишкина, свидетельствующая о консервативных вкусах.⁹³ Список мебели был столь же длинным, сколь и впечатляющим, что указывало на относительно просторную квартиру. В ней имелась резная зеркальная мебель из ореха и дуба, два книжных шкафа, роскошный дубовый диван с кожаной обивкой и зеркальной спинкой, дополнительный диван с плюшевой обивкой. В гостиной стоял стол из резного красного дерева, а дубовый обеденный стол окружали двенадцать дубовых и эбеновых стульев с искусственной кожаной обивкой. Упоминание Янтовской о двенадцати стульях невольно навевает ассоциации с сатирическим романом Ильфа и Петрова 1929 года и, через него, с культурным значением мебели фирмы «Гамбсова мебель». Российская фирма XIX века, основанная немцем, славилась производством мебели для императорской семьи и обеспеченных слоёв населения; несмотря на разнообразие дизайнов, ассоциировалась с общим стилем, близким к бидермайеру, и ценилась за прочный комфорт. В романе «Двенадцать стульев» их разбирают после революции, перенося тем самым высокосветские интерьеры в российский контекст.⁹⁴ Чайный сервиз на 24 персоны — казалось бы, незначительная, но на деле важная деталь,⁹⁵ предполагает многочисленных гостей, обедающих на хрустальных тарелках с серебряными приборами. Стены и полы украшали не менее семи ковров — один французский, остальные украинские и греческие. Французские часы, вероятно дореволюционного производства, свидетельствовали о нетипичной для советской среды социальной принадлежности, а маленький резной ореховый карточный стол с зелёным сукном лишь дополнял впечатление.⁹⁶ Инвентаризации с подобной мебелью указывают на жильё, резко отличающееся от нестабильных жилищных условий большинства советских граждан, даже среди наиболее обеспеченных. Точную планировку этих интерьеров восстановить трудно, однако декларация Самуила Моисеевича Экмекчи, адвоката из Николаева, является заметным исключением. До войны он жил с женой и двумя детьми в квартире с гостиной, совмещавшей функции кабинета, спальней, детской, ванной и кухней. Семья имела более современный культурный уклад — пианино «Милбах», дубовый книжный шкаф с пятьюстами книгами по литературе и праву. В гостиной стояли два радиоприёмника («Пионер» и «СИ 235»), граммофон с восьмьюдесятью пластинками, кабинет оснащался пишущей машинкой «Ундервуд». В квартире была телефонная связь, фотоаппарат «ФЭД» для съёмок менее формальных семейных портретов и пара биноклей, что предполагало посещение вечерних городских мероприятий. В интерьере — диван, два кресла, шесть обитых стульев, круглый стол из красного дерева, бронзовая люстра, лампа с шелковым абажуром и малахитовой основой, персидский ковер, а также пять картин и гобелен на стенах. Двери обиты плюшем, шторы из тюля, хрустальные вазы. Небольшой краснодеревянный предмет с инкрустацией бронзы и хрусталя назывался «музейным экспонатом», вероятно, купленным в антикварном магазине. В столовой — дубовый буфет с хрусталём, кожаный диван, старинные музыкальные часы, бронзовая люстра, декоративные фарфоровые тарелки. Самовар украшен хрусталём, чайный сервиз — фарфоровый, шторы — тюлевые. Спальня отличалась от большинства советских интерьеров: помимо кровати в ней был туалетный столик, берёзовый шкаф с зеркалом, диван, два кресла и четыре пуфа, обитых бархатом, а ещё один диван был покрыт туркменским ковром. Потолок украшала третья люстра, на стенах висели две современные картины. Детская комната, хотя и редкость, не имела специально детской мебели.⁹⁷ Наличие ванной с душем и эмалированной ванной дополняло образ роскоши, который нашёл отражение и в одежде семьи — она была пошита на заказ из богатых тканей, включая шелк, с пальто на меховой подкладке, кимоно и мужские шелковые пижамы.⁹⁸ Интерьер семьи Экмекчи, подробно описанный в инвентаризации, скорее напоминает западный буржуазный водевиль, нежели типичный советский интерьер, даже среди членов элиты. То, что Самуил Моисеевич, как и другие представители его социального круга, считал разумным демонстрировать властям свой довоенный образ жизни, может показаться удивительным — в 1930-х годах подобная откровенность, вероятно, была бы нежелательна для представителей этого слоя общества. Советская система со своей стратифицированной сетью торговли позволяла вести подобный образ жизни — один из главных уроков изучения инвентаризаций — однако оправдания этому не давалось. Каждый предмет приобретался с большими затратами, часто через связи, позволяющие получить выгодные сделки, или через наследование от дореволюционной буржуазии. Это новое чувство безнаказанности возникло в результате того, что война сделала приемлемым демонстрацию богатства, поскольку утраченные вещи уже были «украдены врагом», что лишь усиливало его вину и подводило итог к репарациям. В ряде случаев такая легитимация была достаточной, и в инвентаризациях не предпринималось особых усилий подчеркнуть лояльность владельцев к советскому режиму. Напротив, некоторые составители инвентаризаций прилагали значительные усилия, чтобы продемонстрировать свою реальную или мнимую преданность. Так, Пётр Степанович Давиденко, эвакуированный из Сум и работавший на заводе в Чирчике, вел довоенный образ жизни, значительно превосходящий типичный для рабочего. Он владел парой великолепных сапог, кожаным пальто, дорогим костюмом из шевиота, шелковым шарфом и карманными часами марки «Омега». Его спортивный профиль дополнял велосипед «Украина», а также современная техника — граммофон и патефон с соответствующими пластинками. Тем не менее он сохранил строгие читательские привычки, заявив о примерно сотне книг, из которых более четверти были написаны Лениным.⁹⁹ Список утраченных книг Соломона Михайловича Мошковича, эвакуированного из Ростова-на-Дону, был столь же поучительным, сочетая русскую классику XIX века с трудами ключевых революционных деятелей. В его библиотеке числились два тома Лермонтова, двенадцать томов Пушкина и полные собрания сочинений Ленина и Сталина (эти три коллекции были оценены одинаково). Более скромный, чем предыдущий, он был сотрудником Ростсельмаша — флагмана советской промышленности, эвакуированного в Ташкент. В его доме висел портрет Ленина рядом с портретом Сталина. Инженер из Воронежа, который не забыл упомянуть шелковые платья и украшения своей жены, несколько золотых изделий, серебряные карманные часы, хрустальные вазы и большой чайный сервиз, также уделял внимание господствующей идеологической риторике, включая в библиотеку 143 политических труда, а также книги по профессии, несколько литературных произведений (Горький, Толстой) и медицинские тексты среди 368 книг.¹⁰⁰ Это отражает сталинские принципы, которые позволяли инженерам и техникам отличаться от рабочих за счёт образа жизни, унаследованного от буржуазии, одновременно поощряя чтение для формирования квалифицированных и идеологически преданных наставников. В целом инвентаризации содержат мало сведений о художественных вкусах бывших владельцев коллекций, за редким исключением упоминаний русской живописи XIX века, что соответствовало официально одобренной советской культуре. Аналогично ограничены ссылки на литературу. Так, Мария Марковна Герман, эвакуированная из Москвы в Сызрань летом 1941 года, вероятно, была чиновницей правительственного агентства, переведённого в Куйбышев. Она заявила, что оставила три репродукции картин Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи, а также полные собрания сочинений Пушкина и Толстого.¹⁰¹ Причина редкости упоминаний художников, авторов пропавших картин, остаётся неясной: не являлась ли это неважной деталью для составителей списков? Были ли эти работы неизвестного происхождения? Или авторы инвентаризаций опасались, что их вкусы могут не одобрить власти? Или же из страха преуменьшали ценность произведений?¹⁰² В любом случае, несмотря на явную роскошь, существовало внутреннее понимание ограничений в демонстрации имущества — что подтверждается полным отсутствием упоминаний религиозных предметов, таких как иконы или другие ритуальные объекты, в инвентаризациях.¹⁰³ Ещё один вопрос, выявленный тщательным анализом инвентаризаций с точки зрения «культурных объектов», касается положения предметов иностранного происхождения. Среди упомянутых ранее — пианино и более современные технические изделия. Инвентаризация Зиновия Ефимовича и Татьяны Львовны Фейман, супругов из Одессы, эвакуированных в Ташкент, иллюстрирует проникновение недавно произведённых иностранных технических предметов в традиционный советский дом. В их списке утрат фигурировал гоночный велосипед «Steer», оценённый значительно выше предыдущих примеров, две пишущие машинки — «Underwood» и «Remington», электрофон неизвестной марки, вероятно советского производства, вместе с пятьюдесятью пластинками и профессиональным оборудованием — арифмометром (механическим калькулятором) и ящиком с измерительными приборами. Инвентаризация также содержала радиоприёмник T/б/I советского производства и его аксессуары. Тем не менее, культурная среда, отражённая этой инвентаризацией, — это среда образованной русской буржуазии начала XX века. Книжный шкаф содержал триста томов, включая знаменитую энциклопедию Брокгауза и Ефрона (перевод с немецкого, издание Российской империи 1890–1906 гг.), а также издания Советской академии наук и русскую классику. Художники, написавшие пять картин и акварелей, не были указаны, равно как и авторы музыкальных партитур, сопровождавших скрипку «высокого качества». Пара также заявила об обстановке своей дачи. Среди деталей — дорогой «английский» костюм и «американский» стеклянный книжный шкаф, однако неясно, обозначают ли эти эпитеты стиль или географическое происхождение. Деревянный японский шкаф, маленький антикварный столик, обозначенный как музейный экспонат, резной чёрный ящик для лекарств с инкрустацией из слоновой кости и специально изготовленный дубовый ледник — всё это свидетельствует о тщательном обходе стандартной советской стилистической среды.¹⁰⁴ Эти инвентаризации, составленные во время войны, раскрывают утраченный мир, где дореволюционное прошлое сочеталось с усвоением современных практик, подкреплённых иностранными объектами, а также вкусом к XIX веку, преимущественно русскому, иногда дополненному ссылками, косвенно связанными с революцией. Некоторые из этих предметов недавно были реинтегрированы в официально одобренные вкусы, что свидетельствует о том, что их нельзя считать строго ограниченными официальными предписаниями или социально-экономическим статусом. Они вызывают множество вопросов, на которые архивные источники не дают ответов: каково было происхождение этих предметов, каким образом и когда их владельцы приобрели их? Что заставляло их полагать, что составленные ими списки имущества не причинят им больше вреда, чем пользы? Тщательно составляя свои инвентаризации, невозможно представить, что они не помнили о списках имущества, конфискованного у павших аристократов после революции, столь блестяще высмеянных Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях», чрезвычайно популярном в конце 1920-х годов произведении.¹⁰⁵ Инвентаризации Следственного комитета СССР безусловно перекликаются с теми файлами, созданными сатириками, которые отражали реальные учётные записи,¹⁰⁶ фиксируя одновременно конфискованные активы, учреждения, которым они передавались, и иногда редких лиц, получивших небольшие суммы в качестве взяток — поскольку революция не допускала чистого и прямого восстановления наследия прежней элиты в домах новых хранителей, вне зависимости от их заслуг. Анализ инвентаризаций не даёт ответа, являлись ли владельцы предметов членами бывшей аристократии, избежавшими первых волн большевистских репрессий, их удачливыми бенефициарами или тем и другим одновременно. Циркуляция этих конфискованных активов могла быть сложной — переходя из рук в руки по распоряжению, неформальным обменам, унизительным продажам на блошиных рынках,¹⁰⁷ через «перекупщиков», обходящих закон,¹⁰⁸ или аукционные дома, как, например, в Петровском Пассаже — бывшем центре московской элегантности. Именно здесь Ильф и Петров поместили аукцион своих «двенадцати стульев», организованный бюрократическим агентством — Управлением научных дел, которое пыталось опустошить подвал Московского музея мебели, куда стулья были помещены после революции. Проданные по отдельности, они оказались находкой для различных покупателей: женщины-инженера низшего класса, стремившейся повысить стиль интерьера, обедневшего сатирика, театральной труппы — что означало, что стулья сохраняли неопределённый статус государственной собственности, установленной революцией,¹¹⁰ и, в частности, профсоюза железнодорожников, который, не зная о ценности обивки с бриллиантами, перепродал один из стульев, превращая богатство прежней знати в клуб с современными культурными средствами для народа — мораль, которую любой образованный советский гражданин 1930-х годов без труда понял бы.¹¹¹ Вкусы сталинской эпохи несколько изменили ситуацию, и изучая инвентаризации, вероятно, несколько преувеличенно отражающие роскошь в ожидании компенсаций, мы наблюдаем отражение новой терпимости к реальному богатству — регитимизацию материального комфорта, унаследованного от дореволюционного периода или вдохновлённого буржуазным обществом 1930-х годов, — а также изменчивое представление о видах богатства, приемлемых для хорошего советского гражданина. Мораль сталинской эпохи не изменила фундаментальных общественных ценностей, и инвентаризации, отклоняющиеся от нормативных образцов, также отражают реальные стратегии сохранения и приобретения, осуществляемые с осторожностью и в приватности довоенных семей и домов. Обстоятельства войны выявили эти стратегии, подобно архивариусу, ответственному за имущество павшей аристократии в Старгороде — квинтэссенциальной русской провинции, придуманной Ильфом и Петровым, — который поражался тому, что его ордера содержали «целый город» и «зеркало жизни», другими словами, целую вселенную, не исчезнувшую, а преобразованную революцией.¹¹² Аналогичным образом двойственность чувств, вызванных инвентаризациями старгородского высшего общества — будь то воспоминания о разрушенном прошлом, искажённые одним из его ложных потомков, или ликование советского архивариуса при мысли о раздавленном социальном порядке, без учёта зависти большинства участников — безусловно, играла разную роль в 1940-х годах. Открыто выраженная боль от заявления о потере личного имущества раскрывала многочисленные грани довоенной жизни, теперь уже разрушенной, гордость за наследие, свидетельствующее о культуре и заслугах человека, а также, возможно, тайную досаду от утраты в войне того, что удалось сохранить от ярости революции и превратностей повседневной советской жизни. Для лиц еврейского происхождения антисемитский климат в зонах эвакуации и родных регионах мог побуждать к внесению в списки имущества, которое, вероятно, было трудно оценить после их возвращения в «гипотетические» дома. Писавший спустя сорок лет после войны Бродский пытался реконструировать впечатления от первых встреч с иностранными объектами, отражая при этом частные воспоминания, разделённые многими советскими гражданами и сформировавшиеся со временем, когда точные обстоятельства проникновения этих предметов в их мир были стерты или вовсе неизвестны. Трогательная сцена с мальчиком — фактически еврейского происхождения — открывающим для себя запах тушёнки в истощённом блокадном Ленинграде скрывает судьбу выживших в Шоа, которые навсегда лишились помощи, ставшей возможной благодаря американской щедрости. Увлечение поэта актрисой Сарой Леандер, звездой нацистского кинематографа, найденной им в трофейных фильмах на советских экранах 1940-х годов, мало говорит о судьбе немецких женщин при приближении Красной армии. Что касается пластинок из Шанхая, открывших для семьи Бродского мир знаменитых опер, а также фокстрота и танго, стоит задуматься, насколько этот репертуар совпадал с тем, что слушали эвакуированные из Одессы или других советских городов на своих довоенных граммофонах. Поразительное сходство между списками объектов в инвентаризациях советских жертв грабежей и регистрами зарубежных предметов — от самых скромных до ценных — иллюстрирует общий культурный простор. Разница же, конечно, состоит в изобилии и качестве, даже если архивные источники позволяют лишь частично это предполагать. Не менее поразительным является факт, что данный обзор военных объектов выводит на передний план многих представителей советского иудаизма: обездоленных выживших в Шоа и более двух миллионов еврейских жертв, беспощадно лишённых своего имущества и собственности — даже самой скромной — как оккупантами, так и соседями, до их гибели; представителей более обеспеченного еврейского класса, сумевших эвакуироваться, несмотря на трудности; а также молодое поколение, не рассматривавшее свою еврейскую идентичность как центральную, чья лихорадочная погоня за иностранными товарами была продиктована не местью, а личным удовлетворением. Преобладание этих еврейских фигур может объясняться как побочным эффектом характера архивных источников — сверхпредставленностью среди образованного населения, обращавшегося к письменности и лучше понимавшего логику компенсации — так и иной культурой этих групп. Во всяком случае, данные фигуры отражают военный опыт, затронувший всё советское общество. Одержимость объектами, ставшими доступными благодаря войне, и их интенсивная циркуляция создавали проблемы для сталинской администрации. С одной стороны, государство культивировало признание индивидуального наследия и поощряло стремление к компенсации, проявляя значительную снисходительность к способам присвоения иностранной продукции. С другой — оно никогда не отходило от строгого морального кодекса, который мог быть применён к отдельным гражданам в любой момент. В зависимости от контекста одни и те же предметы роскоши могли означать заслуги и талант советского специалиста, компенсацию армейской элиты или проявление коррупции, отражая глубокую двойственность в отношении изобилия и комфорта — черту, не утраченную советской системой до её распада. В советском контексте война объектов явно размывала границы между тем, что считалось приемлемым и неприемлемым с точки зрения личного присвоения, доступа к комфорту, качества материалов и выбора эстетических регистров. Тем не менее, строгость большевистского проекта означала, что, хотя эти границы могли смещаться, они не были отменены. Глубоко укоренённая в менталитете того времени, советская материальная культура — которая охватывала как сами объекты, включая импортные товары, так и отношения, устанавливаемые между индивидуумами и этими объектами посредством особенностей их поиска и потребления, а также государственное стремление к контролю распределения — оставалась относительно статичной на протяжении нескольких десятилетий, прежде чем исчезнуть с падением коммунизма.¹¹³
_______________________
|
||
| |
||
|
Список литературы ² По поводу присутствия западных товаров в советском обществе послесталинской эпохи см.: Захарова, Лариса, S’habiller à la Soviétique. La mode et le Dégel en URSS (Париж: CNRS Éditions, 2011); Алексей Юрчак, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (Принстон: Princeton University Press, 2006); Жук, Сергей И., Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960-1985 (Вашингтон: Woodrow Wilson Center Press, 2010). ³ По поводу предметов, появившихся в СССР «благодаря» войне, см.: Дунхам, Вера С., In Stalin’s Time: Middleclass Values in Soviet Fiction (Кембридж: Cambridge University Press, 1976). ⁴ Среди множества исследований по конфискации еврейского имущества и формам реституции и компенсации особо выделяются: Дин, Мартин, Robbing the Jews: The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust, 1933-1945 (Кембридж: Cambridge University Press, 2008); Гошлер, Константин и Фер, Филипп (ред.), Raub und Restitution. “Arisierung” und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa (Франкфурт: Fischer Taschenbuch Verlag, 2003); специальный выпуск Revue d’histoire de la Shoah 186 (2007). ⁵ Джессика Рейниш, «Интернационализм в помощи: рождение (и смерть) UNRRA», в книге «Postwar Reconstruction in Europe: International Perspectives, 1945-1949», под ред. Марка Мазовера, Джессики Рейниш и Дэвида Фельдмана, Past and Present Special Supplement 6 (2011): 258-89; Лаура Хобсон Фор, «Еврейский план Маршалла: американское еврейское присутствие во Франции после Холокоста, 1944-1954» (диссертация, EHESS, 2009). ⁶ София Кёре, La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, de 1940 à nos jours (Париж: Payot, 2007); см. также Сумпф, Александр и Ланиол, Винсент (ред.), Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle (Ренн: PUR, 2012). ⁷ Дрейфус, Жан Марк и Жансбургер, Сара, Des camps dans Paris. Austerlitz, Lévitan, Bassano, juillet 1943-août 1944 (Париж: Fayard, 2003); Аннет Вьеворка, Le pillage des appartements et son indemnisation (Париж: La Documentation française, 2000). ⁸ Хесслер, Джули, A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and Consumption, 1917-1953 (Принстон: Princeton University Press, 2004); Льюис Сигелбаум, Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia (Нью-Йорк: Palgrave Macmillan, 2006); Марина Балина и Евгений Добренко (ред.), Petrified Utopia: Happiness Soviet Style (Лондон: Anthem Press, 2009); Кроули, Дэвид и Рейд, Сьюзан Э. (ред.), Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern Bloc (Эванстон: Northwestern University Press, 2010). ⁹ 60 процентов в 1943 году по данным Эдварда К. Картера, Государственный архив Российской Федерации, Москва (ГАРФ), фонд 8581, опись 2, дело 59, лист 75. ¹⁰ ГАРФ, фонд 5283, опись 2а, дело 21, листы 81, 86, 95 и дело 44, лист 127об. Происхождение семьи Грулиева, частично русского, частично еврейского, позволяет предположить, что он имел лингвистические знания, позволяющие ориентироваться в советской реальности и был особенно чувствителен к судьбе евреев в Советском Союзе. ¹¹ ГАРФ, фонд 5283, опись 2а, дело 21, листы 79-79об, 86 и 92-93. Еврейские эвакуированные также были предметом запросов Грулиева о их положении в Саратовском регионе, где Российская военная помощь (RWR) готовила программу помощи. ГАРФ, фонд 5283, опись 2а, дело 21, лист 79-79об (июль 1944). ¹² В предложении августа 1945 Владимир Кеменов, президент Всероссийского общества культурных связей с заграницей (ВОКС), предложил Наркомату иностранных дел показать Картера и местные склады RWR, а также памятные места, символизирующие мученичество города: план городской реконструкции, выставку «Оборона Ленинграда» и разрушенные императорские дворцы. Также было запланировано встречу с Первым секретарём партийного комитета Петром Попковым, возглавлявшим город во время блокады. См. Кершенбаум, Лиза А., The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995: Myth, Memories, and Monuments (Нью-Йорк: Cambridge University Press, 2006). ¹³ ГАРФ, фонд 5283, опись 2а, дело 44, листы 148-52. ¹⁴ Шимон Редлих, Propaganda and Nationalism in Wartime Russia: The Jewish Antifascist Committee in the USSR, 1941-1948 (Боулдер: East European Quarterly, 1982); Беркофф, Карел К., Motherland in Danger: Soviet Propaganda During World War II (Кембридж: Harvard University Press, 2012). ¹⁵ Другими словами, этническая принадлежность по советской терминологии. ¹⁶ Мордехай Альтшулер, Ицак Арад и Шмуэль Краковский, Sovetskie evrei pishut Il’e Erenburgu 1943-1966 (Иерусалим: Яд Вашем, 1993), с. 140-42 и 222, письмо от 22 июля 1944. ¹⁷ Костырченко, Геннадий Васильевич, Государственный антисемитизм в СССР от начала до кульминации, 1938-1953 (Москва: Международный фонд «Демократия»/Материк, 2005), июнь 1944, с. 52-57. ¹⁸ По вопросу возобновления этого древнего (и по сей день горячо обсуждаемого) вопроса в связи с открытием архивов см. Костырченко, Геннадий Васильевич, Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм (Москва: Международные отношения, 2003), и Дэвид Бранденбергер, «Последнее преступление Сталина? Новейшие исследования послевоенного советского антисемитизма и дела врачей», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 6, № 1 (2005): 187-204. ¹⁹ Георгий Федорович Александров, начальник отдела пропаганды ЦК, октябрь 1945, в Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, с. 130. ²⁰ Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, с. 120. ²¹ Redlikh, Evreiskii antifashistskii komitet, с. 115-16. ²² По поводу попыток Еврейского антифашистского комитета ответить на ожидания зарубежных корреспондентов см. ГАРФ, фонд 8114, опись 1, дело 973. ²³ Это объясняет наличие множества документов по вопросам помощи в архивах ЦК, хранящихся в ГАРФ, тщательно отобранных Министерством государственной безопасности (МГБ), а также многочисленных переписанных и/или переведённых документов (особенно с идиша). Эти документы подробно описаны Абакумовым в записке от 4 декабря 1950 года. ²⁴ Возрождение, обусловленное новым законодательством и большей терпимостью, от которой в основном выиграли религиозные конфессии, представленные на советской территории. Яаков Рой (ред.), Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union (Илфорд: F. Cass, 1995). ²⁵ Рой, Яаков, «Восстановление еврейских общин в СССР, 1944-1947», в книге The Jews Are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII, под ред. Дэвида Банкьера (Иерусалим: Яд Вашем, 2005), с. 186–205. ²⁶ ГАРФ, фонд 6991, опись 3, дело 28, лист 227. ²⁷ Вениамин Фёдорович Зима, Голод в СССР 1946-1947 годов. Происхождение и последствия (Льюистон: The Edwin Mellen Press, 1999), с. 146. ²⁸ Рейниш, «Интернационализм в помощи». Продовольственная помощь для республик Белоруссии и Украины составляла соответственно 49% и 53% помощи, отправленной UNRRA в эквиваленте долларов США. ²⁹ UNRRA, Economic Rehabilitation in the Ukraine, Operational Analysis Papers, 39 (1947), с. 68 и 72; UNRRA, Economic Rehabilitation in Byelorussia, Operational Analysis Papers, 48 (1947), с. 42 и 49, примечание 2. ³⁰ UNRRA, Economic Rehabilitation in the Ukraine, с. 77-78; UNRRA, Economic Rehabilitation in Byelorussia, с. 53-54. ³¹ Джонстон, Тимоти, Being Soviet: Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin, 1939-1953 (Оксфорд: Oxford University Press, 2011), с. 95–97. ³² ГАРФ, фонд 9501, опись 5, дело 315, лист 2-2об. ³³ Варлам Шаламов, «Prêt-bail», Récits de la Kolyma (Лаграсс: Verdier, 2003), с. 506. ³⁴ Зубкова, Елена Ю. и др. (ред.), Советская жизнь, 1945-1953 (Москва: РОССПЭН, 2003), с. 83–88. ³⁵ Российский государственный архив социально-политической истории, Москва (РГАСПИ), фонд 17, опись 122, дело 139, листы 83-92. ³⁶ Будницкий, Олег, «Интеллигенция встречает врага: образованные советские офицеры в побежденной Германии, 1945», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 10, № 3 (2009): 629–82. ³⁷ Неймарк, Норман М., Русские в Германии: история советской зоны оккупации, 1945-1949 (Кембридж: Harvard University Press, 1995); Крисциан Унгвари, Осада Будапешта: 100 дней Второй мировой войны (Нью-Хейвен: Yale University Press, 2005). ³⁸ Мерридейл, Кэтрин, Иванова война: жизнь и смерть в Красной Армии, 1939-1945 (Лондон: Faber and Faber, 2005), с. 260. ³⁹ РГВА, фонд 32900, опись 1, дело 458, листы 42-42об, 94-95, 98 и 112-116. ⁴⁰ Будницкий, «Интеллигенция встречает врага», с. 633. ⁴¹ Мерридейл, Иванова война, с. 279. ⁴² Ретушь известной фотографии Евгения Халдея, на которой солдат Красной Армии с флагом на вершине Рейхстага, изначально украшенным несколькими часами, не противоречит идее терпимости, а скорее демонстрирует распространённость этой практики. ⁴³ Une femme à Berlin. Journal, 20 апреля — 22 июня 1945, перевод Франсуазы Вулльмарт (Париж: Gallimard, 2006). ⁴⁴ Гельфанд, Владимир, Дневник немца, 1945-1946. Записки красноармейца (Берлин: Aufbau-Verlag, 2005), с. 78–82. * "Один советский дневникописец по имени Владимир Гельфанд обратил это несоответствие себе на пользу: на следующий день после того, как он научился ездить на велосипеде, он почувствовал себя достаточно непринужденным, чтобы обратиться к изнасилованной немке и ее матери; женщина попросила его защитить их от его соотечественников, от чего он вежливо отказался" - Nathalie Moine Оригинальный текст из дневника Владимира Гельфанда. Запись от 25.04.1945: Берлин. Шпрее. Пехота еще вчера и позавчера ночью форсировала Шпрее и завязала бои у железнодорожного полотна. А мы - штаб дивизии, обосновались до сего времени на одной из прибрежных улиц пригорода Берлина в больших полуразрушенных многоэтажных зданиях. Сейчас выехали и ожидаем у берега Шпрее – форсировать будем. События меняются так стремительно, что их не всегда успевает схватывать воображение и порой так трудно, но необходимо, запечатлеть наиболее сильные моменты в моей жизни, что готов забыть все остальное специально для этого. Позавчера, в предместье Берлина катаясь на велосипеде (кстати, днем раньше я научился ездить на этой замечательной, так мне показалось, машине), я встретился с группой немецких женщин с узелками, чемоданами и тюками – возвращаются домой, – подумал я местные жители и, сделав 2 круга на шоссе, попытался разглядеть их поближе. Но вдруг они все бросились ко мне со слезами и что-то не совсем понятное втолковывая мне по-немецки. Я решил, что им тяжело нести свои вещи и предложил к их услугам свой велосипед. Они закивали головами и вдруг неожиданно на меня глянули такие изумрудные очи, так чертовски остро глянули, что где-то в глубине сердца кольнуло огоньком страсти и я убедил себя в необходимости узнать причину страданий этих женщин. Они долго рассказывали, много объясняли, и слова их сливались и таяли в неуловимой сразу немецкой скороговорке. Я спросил немок где они живут на ломанном немецком и поинтересовался, зачем они ушли из своего дома, и они с ужасом рассказали о том горе, которое причинили им передовики фронта в первую ночь прихода сюда Красной армии. Жили они недалеко от места нашего стояния и моих прогулок на велосипеде, так что я свободно мог подойти к ним домой и обстоятельно разобраться во всей истории, тем более что сильнее всего меня притягивала чудесная девушка, ставшая так случайно и так неожиданно для себя и родителей своих виновницей стольких переживаний. Я пошел с ними. На минуту прервусь. В воздухе тарахтят десятки зубастых Бостонов в сопровождении, кажется, наших истребителей. Летят к центру Берлина, и так гармонично сочетается вся эта мелодия победы (грозное пение «Катюш», гул самолетов, рявканье наших орудий) с моим душевным настроением. Но продолжу рассказ свой. Жили они хорошо. Огромный двухэтажный дом с роскошной меблировкой, великолепной внутренней отделкой и росписью стен, потолка. Семья была многочисленной. Когда пришли наши солдаты, они всех вытеснили в подвал. А самую молодую из всех взрослых людей и самую, пожалуй, красивую, забрали с собой и стали над ней глумиться. - Они тыкали сюда, - объясняла красивая немка, задирая юбку, - всю ночь, и их было так много. Я была девушкой, - вздохнула она и заплакала. Они мне испортили молодость. Среди них были старые, прыщавые, и все лезли на меня, все тыкали. Их было не меньше двадцати, да, да, - и залилась слезами. - Они насиловали при мне мою дочь, - вставила бедная мать, - они могут еще прийти и снова насиловать мою девочку. - От этого снова все пришли в ужас, и горькое рыдание пронеслось из угла в угол подвала, куда привели меня хозяева. - Оставайся здесь, - вдруг бросилась ко мне девушка, - ты будешь со мной спать. Ты сможешь со мной делать все, что захочешь, но только ты один! Я готова с тобой «фик-фик», я согласна на все, что ты захочешь, но спаси меня от массы людей с такими вот х....! Она все показывала и обо всем говорила, и не потому, что была вульгарна. Горе ее и страдания превысили стыд и совестливость, и теперь она готова была раздеться донага прилюдно, лишь бы не прикасались к ее истерзанному телу, не прикасаться к тому, что еще годами могло оставаться нетронутым, и что так внезапно и грубо было […] Вместе с ней умоляла меня мать. - Ты разве не хочешь спать с моей дочкой?! Русские товарищи, что были здесь – все хотели! Они могут прийти, или на их место новые двадцать появятся, и тогда горе мое безраздельно! Девушка стала обнимать меня, умолять, широко улыбаясь, сквозь слезы. Ей было трудно меня уговаривать, но она постаралась прибегнуть ко всему, что есть в искусстве женщины, и неплохо сыграла роль свою. Меня, склонного ко всему красивому, легко было привлечь блестящими глазками, но воинский долг превыше всего и я решил во-первых воспользоваться положением, во-вторых помочь людям. листы записи в дневнике: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
⁴⁵ Первые советские фотоаппараты были так же редки, как и легендарны, поскольку их выпускали в детском доме для беспризорников, называвшемся «Феликс Дзержинский». Камера FED-1 появилась в 1934 году, и в 1937 году приходилась одна на каждые пятьсот жителей. Материалы для фотосъемки были столь же дефицитными и дорогими, поэтому любительская фотография оставалась ограниченной до 1950-х годов. См.: Нарский, Иван, Fotokartochka na pamiat’: semeinye istorii, fotograficheskie poslaniia i sovetskoe detstvo (Челябинск: Энциклопедия, 2008), с. 317–318. ⁴⁶ Любопытный факт относительно восприятия войны в современном российском обществе, включая интеллигенцию, — первая групповая фотография трёх героев-детей из недавнего романа была сделана старым патриотическим военным врачом с «превосходной трофейной камерой», что отражает интересные дореволюционные манеры в частных сценах. См.: Улицкая, Людмила, Зелёный шатёр (Москва: Эксмо, 2011), с. 22–25. ⁴⁷ Гельфанд, Deutschland-Tagebuch, с. 205, 14 января 1946 г. ⁴⁸ Там же, с. 267, 22 мая 1946 г. и с. 302, 27 августа 1946 г. Скорее всего, эти навыки он получил в мае 1946 года, когда часто контактировал с культурной польской семьёй из присоединённых к СССР территорий. Там же, с. 308, 11 сентября 1946 г. ⁴⁹ Там же, с. 306, 6 сентября 1946 г., и с. 308, 7 сентября 1946 г. Эти фотографии оккупационного периода перекликаются с более известной и широко распространённой практикой немецких солдат фотографировать как молодых женщин, так и сцены зверств. Однако дневник Гельфанда не указывает, что его целью было документирование следов войны. ⁵⁰ Там же, с. 269, письмо матери от 27 мая 1946 г. Гельфанд, безусловно, был склонен к фотографии: он регулярно делал портреты у профессиональных фотографов и отправлял множество снимков матери и другим своим корреспонденткам. Он также украшал стены своей комнаты в Германии купленными и найденными фотографиями. ⁵¹ Кроме утилитарной одежды мать Гельфанда заказала через него радиоприёмник, там же, с. 181, письмо от 15 ноября 1945 г. ⁵² Кнышевский, Павел, Moskaus Beute. Wie Vermögen, Kulturgüter und Intelligenz nach 1945 aus Deutschland geraubt wurden (Мюнхен: Olzog Verlag, 1995). ⁵³ Будницкий, «Интеллигенция встречает врага», с. 657. По вопросу массовых отправок посылок немцами во время оккупации, включая из СССР и особенно Украины, см.: Али, Гётц, Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State, перевод Дж. Чейза (Нью-Йорк: Metropolitan Books, 2007). ⁵⁴ Мерридейл, Иванова война, с. 281. ⁵⁵ Гельфанд, Deutschland-Tagebuch, с. 180, письмо матери от 15 ноября 1945 г., в котором она просит не писать на её рабочий адрес и особенно не посылать посылки. ⁵⁶ Эдель, Марк, Soviet Veterans of the Second World War: A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941-1991 (Оксфорд: Oxford University Press, 2008), с. 30. Гельфанд покинул Германию в более скромных обстоятельствах с двумя «маленькими, но тяжёлыми» чемоданами и двумя сумками. Там же, с. 312, 26 сентября 1946 г. ⁵⁷ Там же, с. 204-205, 14 января 1946 г., и с. 211, 21 января 1946 г. ⁵⁸ Там же, с. 176-177, 6 ноября 1945 г. ⁵⁹ Кнышевский, Moskaus Beute. ⁶⁰ Кнышевский, Павел Н., Dobycha: Tainy germanskikh reparatsii (Москва: Соратник, 1994), с. 120–121. ⁶¹ Гельфанд, Deutschland-Tagebuch, с. 218, письмо матери от 26 января 1946 г.: покупка «хорошего» приёмника с пятью лампами за четыре тысячи марок; с. 280, 23 июня 1946 г.: радио стоимостью две тысячи марок, которое он обменял на два костюма; с. 300, свидетельство от 28 августа 1946 г. ⁶² Вассие, Сесиль, Russie: une femme en dissidence. Larissa Bogoraz (Париж: Plon, 2000), с. 39. ⁶³ Валери Познер, «Судьба трофейных плёнок, изъятых советскими войсками во Вторую мировую войну», в Sumpf и Laniol, Saisies, spoliations et restitutions, с. 147-164. ⁶⁴ См. Фюрст, Джулиана, Stalin’s Last Generation: Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialism (Оксфорд: Oxford University Press, 2010), с. 200-249. ⁶⁵ Эдель, Soviet Veterans, с. 91. ⁶⁶ ГАРФ, фонд 5446, опись 49а, дело 467, листы 12-18. По политике репараций см. Фиш, Йорг, Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg (Мюнхен: C. H. Beck, 1992). ⁶⁷ ГАРФ, фонд 5446, опись 49а, дело 2848, листы 1-3. Благодарность Жюльетте Кадьё за информацию об этом деле. По участию коммерческих органов в черном рынке в советской экономике см.: Тамара Кондратьева, «Материальная ответственность при социалистическом режиме собственности», в книге Les Soviétiques. Un pouvoir, des régimes, под ред. Тамары Кондратьевой (Париж: Les Belles Lettres, 2011), с. 113-130. ⁶⁸ По личному участию Сталина в снижении влияния Пономаренко в руководстве Белоруссии путём назначения Гусарова за год до этого (27 февраля 1947 г.) см.: Хлевнюк, Олег В. и др., Politbiuro TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR, 1945-1953 (Москва: РОССПЭН, 2002), с. 47 прим. 1. ⁶⁹ Руководство Белоруссии также обвинялось в хищении государственных ресурсов для строительства частных домов, показывая аналогичное безразличие к нуждам граждан, многие из которых вынуждены были жить в землянках. ⁷⁰ ГАРФ, фонд 8131, опись 37, дело 3187, лист 17, доклад прокуратуры Николаевской области, апрель 1946 г. ⁷¹ По «войне служб» см. Петров, Никита, Первый председатель КГБ Иван Серов (Москва: Материк, 2005). Если не указано иное, книга является источником сведений по этому делу. ⁷² В своей защите Серов обвинял Абакумова в организации доставки в Москву двадцати вагонов трофеев, несмотря на пик войны, и загрузке самолёта для Крыма трофейными товарами. См. также регулярное использование белорусских авиарейсов и личного самолёта Пономаренко для транспортировки ковров и других ценностей в Минск, РГАСПИ, фонд 17, опись 122, дело 308, лист 92. ⁷³ Акинша, Константин и Козлов, Григорий, Beautiful Loot: The Soviet Plunder of Europe’s Art Treasures (Нью-Йорк: Random House, 1995); Кнышевский, Moskaus Beute; Маргарита С. Зинич, Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских культурных ценностей (Москва: Институт российской истории РАН, 2003). ⁷⁴ ГАРФ, фонд 5446, опись 49а, дело 243, листы 38-39 и 51. ⁷⁵ Однако три человека, арестованные в том же деле, получили условные сроки в октябре 1951 года после более чем трёх с половиной лет заключения. ⁷⁶ Объяснение сходства аргументов двух мужчин связано с их близостью, а тема «обывательского болота» — типичный моралистический приём в большевистской риторике. ⁷⁷ Осокина, Елена, Золото для индустриализации: «ТОРГСИН» (Москва: РОССПЭН, 2009), особенно с. 83-102 и 118-146. ⁷⁸ «Через минуту прозвучал выстрел, зеркала исчезли, витрины и табуреты упали, ковёр испарился в воздух, как и занавеска...» Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, перевод Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской (Лондон: Penguin, 1997), с. 130. ⁷⁹ Там же, с. 163-170. ⁸⁰ Многие инвентаризации, проанализированные в исследовании, были составлены эвакуированными лицами, которых эвакуировали на Урал и в Среднюю Азию в начале войны. Особые отношения к имуществу обусловлены тем, что они оставили большую часть имущества и могли лишь представить его полное исчезновение. См. ГАРФ, фонд 5446, опись 43а, дело 6328. По социальному профилю эвакуированных см.: Манли, Ребекка, To the Tashkent Station: Evacuation and Survival in the Soviet Union at War (Итака: Cornell University Press, 2009). ⁸¹ Муан, Натали, «Советская комиссия по расследованию нацистских военных преступлений: между освобождением территории, написанием военного нарратива и судебным использованием», Le Mouvement social 222, № 1 (2008): 81-109. ⁸² Вассие, Russie: une femme en dissidence, с. 61-62. ⁸³ «Если оставить в стороне девяносто миллионов крестьян, предпочитающих сидеть на деревянных скамьях, досках или земляных местах, и на востоке страны — на поношенных коврах, остаётся пятьдесят миллионов людей, для которых стулья являются предметом первой необходимости в повседневной жизни», Ильф и Петров, Двенадцать стульев, перевод Джона Ричардсона (Лондон: Frederick Muller, 1965), с. 118. ⁸⁴ Гроссман, Василий, Жизнь и судьба, перевод Рэймонда Чандлера (Лондон: Harvill Press, 1995), с. 81. ⁸⁵ Средняя зарплата рабочего в 1930-х годах составляла триста рублей. ⁸⁶ ГАРФ, фонд 7021, опись 28, дело 68, акт 133. Оценка рыночных цен на момент создания акта и работы комиссий существенно искажает ситуацию. См. Муан, Натали, «Оценка материальных потерь населения СССР во Второй мировой войне: к легитимации частной собственности?» Histoire et Mesure 28, № 1 (2013): 187-216. ⁸⁷ Среди многочисленных исследований вопроса см.: Келли, Катриона и Волков, Вадим, «Directed Desires: Kul’turnost’ and Consumption», в книге Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940, под ред. Келли и Шеперда (Оксфорд: Oxford University Press, 1998), с. 291-313. ⁸⁸ В инвентаризациях крайне редко указываются профессии пострадавших. ⁸⁹ ГАРФ, фонд 7021, опись 28, дело 68, акт 121. ⁹⁰ ГАРФ, фонд 7021, опись 28, дело 31, лист 142. ⁹¹ По официальному культу Пушкина, особенно в юбилейный 1937 год, см. Платт, Кевин М. Ф. и Бранденбергер, Дэвид, под ред., Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda (Мэдисон: University of Wisconsin Press, 2005). ⁹² Эта книга была найдена среди небольшого дорожного набора матери Струма, когда она вошла в гетто Бердичева. Набор состоял из самых ценных книг, фотографий, писем и необходимых вещей для сна, еды и продолжения медицинской практики. Описание связывает Анну Семёновну с русской интеллигенцией, хорошо знакомой с русской литературой XIX века и французской классикой, в то время как украинские плебеи напоминали ей, «что она была евреем», Гроссман, Жизнь и судьба, с. 81. ⁹³ Картина «Утро в сосновом бору» Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), экспонируемая в Третьяковской галерее и в массовых репродукциях по сей день, в частности, на коробках шоколада фабрики «Красный Октябрь». ⁹⁴ В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» один из героев — дворянин Воробьянинов, который после революции стал чиновником. Узнав, что один из стульев содержит сокровище, он вспоминает исчезнувший салон своего провинциального дома, с антикварной мебелью и старинными фотографиями родственников, Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 15. ⁹⁵ Амбициозная реконцептуализация образа жизни 1920-х годов, хоть и оставшаяся в значительной мере теоретической, подробно обсуждает, например, производство чайных сервизов для определённого числа гостей (шесть или двенадцать), направленных на сохранение домашнего пространства как места социальной жизни, а не поощрение постоянного нахождения в общих помещениях столовой. См. В. С., «Оформление быта. Производственные организации не раскачались», Искусство в массы 4 (1930): 22-23, цитируется в: Кэрен Кеттеринг, «“Все более уютно и комфортно”: сталинизм и советский интерьер 1928-1938», Journal of Design History 10, № 2 (1997): 119-135. ⁹⁶ ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 71, акт 184. В декларации Иантовская указала, что проживает в доме в Чирчике (Узбекистан), разошлась с мужем, который пропал в Урале во время эвакуации. Хотя уровень жизни снизился, доход составлял 1200 рублей в месяц. Письмо отличает ярый советский патриотизм с антинемецкой риторикой. Среди описываемого имущества — шесть золотых зубов и шесть коронок, что показывает антикварный анахронизм, учитывая происхождение автора. См. «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны (Москва: РОССПЭН, 2012), с. 98. ⁹⁷ Упоминания детской мебели очень редки в описях. Один эвакуированный из Харькова, Яков Моисеевич Гуревич, упоминает детский диван, небольшой стол и три стула для дочерей. Он принадлежал к обеспеченному классу с модернистскими вкусами, имел дорогое пианино, коллекцию из 200 пластинок и электрические домашние приборы. См. ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 53, акт 171. Игрушки почти не упоминаются. Инженер Дмитрий Николаевич Головастиков из Воронежа имел похожий профиль: 250 пластинок, радио, серьёзные технические и политические книги, две фарфоровые куклы, две фигурки Деда Мороза и электрические рождественские огни, что отражает легализацию подобных предметов с 1936 года. См. там же, дело 71, акт 194. По дефициту игрушек в СССР см. Келли, Катриона, Children’s World: Growing up in Russia, 1890-1991 (Нью-Хейвен: Yale University Press, 2007). ⁹⁸ ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 53, акт 158. ⁹⁹ ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 71, акт 166. ¹⁰⁰ ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 71, акт 194. ¹⁰¹ ГАРФ, фонд 7021, опись 28, дело 31, лист 20. Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), известный русский морской художник и романтик, популярный до революции и в 1930-е. В статье конца 1930-х годов его называли среди художников, чьи работы должны были украсить советские интерьеры, при условии наличия качественных репродукций, публикуемых Изогизом. См. Кравченко, К., «О картинах и репродукциях», Общественница 15 (1937): 17–19; русский пейзажист Архип Иванович Куинджи (1842-1910). ¹⁰² Советское руководство, похоже, не считало нужным включать в список художественных произведений, взятых врагом и подлежащих возврату или компенсации, ничего, кроме музейных и общественных коллекций. См. Акинша, Константин, «Указы Сталина и советские трофейные бригады: компенсация, реституция или «трофеи войны»?», International Journal of Cultural Property 17, № 2 (2010): 195–216. ¹⁰³ По изменениям в отношениях церкви и государства во времена Сталина см. Чумаченко, Татьяна А., Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years, пер. и ред. Эдварда Рослофа (Армонт: M. E. Sharp, 2002). ¹⁰⁴ ГАРФ, фонд 7021, опись 100, дело 53, акт 243. ¹⁰⁵ «Чья мебель вас интересует? Ангелов, купец первой гильдии? Конечно. ... Изъятая у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль Баеккер, один, № 97012; табуреты для рояля, один мягкий; бюро, два; шкафы, четыре (два из красного дерева); книжный шкаф, один... и так далее. ... Буква В. ... Вм, Вн, Воротский, № 48238, Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, ваш отец, упокой его душу, был человеком с большим сердцем... Рояль Баеккер, № 54809. Китайские вазы, маркированные, четыре, из Севра во Франции; ковры Обюссон, восемь, разных размеров; гобелен «Пастушок»; гобелен «Пастушка»; ковры текке, два; ковры Хорасан, один; плюшевые медведи с посудой, один; спальня на двенадцать мест; столовая на шестнадцать мест; гостиная на двенадцать мест, из ореха, производства Хамбс», Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 77–78. ¹⁰⁶ По практике изъятия мебели сразу после революции см. Захарова, Лариса, «26-28 Каменноостровский. Триумфы революционного дома», в сборнике Saint-Pétersbourg. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, под ред. Лоррейн де Мё (Париж: R. Laffont, 2003), с. 473–505. ¹⁰⁷ Известные фотографии представителей бывших элит дополняют рассказы и свидетельства. На снимках фигуры стоят на тротуаре, ожидая клиента, вынуждены продавать последние вещи во время гражданской войны, чтобы купить необходимые вещи. ¹⁰⁸ Директор дома престарелых, которому был присвоен один из двенадцати стульев, перепродал его одному из героев романа, который выдавал себя за перекупщика — посредника, нелегально покупавшего предметы для перепродажи и получения прибыли, Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 54–55. ¹⁰⁹ Роман рассказывает о судьбе другого комплекта стульев Гамбс, ошибочно разыскиваемых жадным папой: изъятые у жены генерал-старгородца, они были переданы инженеру Брунсу, который уехал в Харьков и тщательно ухаживал за мебелью. Затем он переехал в Ростов, где работал на крупного производителя цемента, прежде чем его пригласили на работу на бакинские нефтеперерабатывающие заводы, где мебель украсила его дачу на холме с видом на Батуми, превратив Брунса в аватар колониальной элиты, Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 55, 150, 211 и 287–292. ¹¹⁰ Что не помешало технику театра тайно перепродавать имущество, выделенное театру, героям романа, отчаянно пытавшимся приобрести эти вещи, Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 137–138, 164–168 и 280. ¹¹¹ Русская версия статьи Ларисы Захаровой «26-28 Каменноостровский» также носит название «Двенадцать стульев», что свидетельствует о неразрывной связи романа и его морали с судьбой имущества бывших царских элит в сознании советского и постсоветского общества с момента публикации до наших дней. ¹¹² «“Всё здесь,” — сказал он, — “весь Старгород. Вся мебель. У кого забрали и кому отдали. И вот алфавитный указатель — зеркало жизни! ... Всё здесь. Пианино, диваны, зеркала, стулья, тахты, пуфы, люстры... даже сервизы,” Ильф и Петров, Двенадцать стульев, с. 77. ¹¹³ Исчезновение происходит с разной скоростью в зависимости от социального статуса, возраста и т. д. Ностальгия по советской материальной сфере не прерывает этот процесс, учитывая её часть в западной коммерциализации. . |
||
